Антропологических Фильмов кинофестиваль |
Этничность и идентичность на Урале
Самоопределение в сегодняшнем мире — не диагноз, а выбор. Нас все дальше относит от берега модерна, твердого берега «единственной правды», в море постмодерна, где истины ситуативны и текучи, где миражи так же реальны, как самоощущения. Однако слом метанарративов произошел не полностью, не для всех и, наверное, не навсегда. Генеральные идеи по-своему адаптируются к постмодерну, что заметно в обновлении религиозных, политических и научных дискурсов. Поиск идентичности — соотнесения себя с той или иной общностью или идеей — всегда был полем напряжения между полюсами персонализации и социализации. И всегда в этом поле находились как объединители, так и раскольники.
Наше эволюционистское подсознание часто рисует этничность последовательно развивающейся. Во многих модернистских схемах ей предрекается вырождение или стирание. Преодоление этничности предвидели многие мыслители и политики, включая марксистов, модернистов, конструктивистов. Однако во все времена этничность не исчезала, а лишь меняла свой облик, дрейфуя между пиками и спадами политики, религии или экономики. Пока в ней что-то исчезает, что-то тут же появляется. Она похожа на реку, которая постоянно куда-то утекает и откуда-то прибывает.
Этничность — не рудимент традиционной социальности, а постоянно генерируемое явление. Эта возобновляемость обусловлена функцией персональной и групповой стратегии самоопределения и безопасности. Этничность представляется самой естественной и доступной (вслед за брачно-родственной) социальностью, поскольку в ней реализуется общность понимания и доверия. Скорее инстинктивно, чем осознанно, люди в драматических ситуациях ищут спасения в этничности (или религиозной идентичности) и в ней же черпают ресурсы самореализации и позиционирования. В зависимости от состояния элитных групп и внешних контактов она может нагнетаться, унифицироваться, рассеиваться, дробиться. В системе идентичностей (включая гендерную, возрастную, родовую, классовую, территориальную, гражданскую, профессиональную и т. д.) место этничности столь же устойчиво, сколь и изменчиво, и связано это не только со сменой эпох и идей, но и с многообразием персональных и групповых мотиваций.
Одной из удобных площадок изучения этничности в многообразии ее проявлений служит Урал, испытавший на себе все тяготы мировой истории. Этнологически Урал изучен фрагментарно, поскольку исследователей обычно привлекают тихие этнические омуты, а не бурлящие стремнины и плавильные котлы. Между тем сегодня актуально понимание не только устойчивости, но и изменчивости, в том числе в межкультурном взаимодействии. Еще недавно всемирно популярная доктрина «устойчивого развития» как-то незаметно скрылась в тени глобальных перемен и потрясений, хотя формально и не была замещена концепцией «изменчивого развития».
Этноперекресток
Едва ли не каждое описание Урала сопровождается его характеристикой как перекрестка путей и мозаики культур. Одновременно он представляется барьером, пусть и невысоким, между Европой и Азией, а устойчивые выражения «перевалить за Камень», «чрезкаменный путь» подчеркивают его значение транзитного перевала. Однако, подобно другим горным странам, Урал обладает свойствами не только разделителя, но и объединителя равнин. Рубеж Европы и Азии — не символ, а сложная функция синтеза и преобразования разнохарактерных обстоятельств и действий. Кроме того, здесь сходятся как Запад с Востоком, так и Юг с Севером, образуя замысловатую «розу путей». На таких территориях сочетаются и чередуются качества центр–периферия, метрополия–колония, перевал–очаг, превращая их в полигоны межэтнического взаимодействия и культурного обмена. Урал с эпохи камня был, с одной стороны, пространством пересечения и конкуренции подвижных магистральных культур, с другой — местом оседания и формирования локальных культур.
Еще в плейстоцене, 20–30 тысяч лет назад, вдоль хребта Урала проходила одна из самых ранних в праистории Северной Евразии миграционных магистралей, достигавшая на севере Полярного круга (стоянки Заозерье, Гарчи, Бызовая, Мамонтова Курья), окруженная с запада и востока ледниками и приледниковыми озерами-морями. Не исключено, что в этих походах компанию homo sapiens составляли неандертальцы [1]. Позднее здесь сформировалось ядро общности, разросшейся в уральскую языковую семью. В биоантропологическом отношении эта семья (особенно ее срединная часть) соответствует уральской малой расе, которая сочетает физические признаки европеоидов и монголоидов и потому считается либо плодом их многовековой метисации (Г. Ф. Дебец), либо сколком древнейшего ствола человечества, еще не разделившегося на основные расы (В. В. Бунак). Эти гипотезы обычно рассматриваются как противоположные, хотя, на мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга применительно к пространствам-перекресткам. Для горных стран характерен сдвоенный механизм локализации (в биоантропологическом плане изоляции) и миграции (миксации).
«Фактор перекрестка» не сводится к бесконечному транзиту, а генерирует очаги движения, в которых рождаются мобильные культуры больших пространств. Урал стал колыбелью многих магистральных культур, прежде всего уральской языковой семьи, расселившейся в пространстве от Фенноскандии до Алтая и Таймыра. В бронзовом веке южный Урал был одним из плацдармов степных индоевропейцев, оставивших сеть впечатляющих археологических памятников (Аландское, Аркаим, Ольгино, Синташта и др.). На рубеже эр он вошел в орбиту движения алтайских кочевников, став прибежищем для остатков азиатских хунну и ареной их перерождения в орду европейских гуннов. В средние века отсюда же двинулись на «завоевание родины» мадьяры. На севере Урала сложилось кочевое сообщество «каменных самоедов», охвативших своими кочевьями евразийскую тундру от Белого моря на западе до Таймыра на востоке [2].
Выступая метрополией ряда культур, Урал одновременно испытывал воздействие крупнейших североевразийских очагов экспансии — центральноазиатского и североевропейского. Южноуральские степи и леса оказались в зоне колонизации тюркских каганатов и монгольского улуса, приуральский север — в орбите движения викингов, ладожан, бьярмов (перми). На рубеже I–II тыс. н. э. на Урале пересеклись магистральные культуры Великого Булгара и Великого Новгорода, позднее — Орды и Москвы. Будучи окружен конкурентными внешними влияниями, но находясь в отдалении от их эпицентров, Урал сохранял потенциал преобразования этих воздействий. Из туземцев и пришельцев (при ведущей роли мадьяр и тюрок) сложилась общность уральских башкир, сохранявшая самобытность в ордынском и российском подданстве благодаря военно-сословным и вотчинным привилегиям. Ранняя русская колонизация Урала обернулась возникновением вотчины Строгановых, созданной новгородскими «вечевыми людьми» после разгрома Новгорода Москвой. Обширная, политически автономная и экономиче ски мощная вотчина Строгановых была сколком новгородской традиции, вписанной ценой изощренной дипломатии в чуждый ей московский политический контекст. Тот же характер самостийности носило движение на Урал казаков, включая атамана Ермака (преследуемого Москвой и обласканного Строгановыми). Урал стал местом стечения двух русских вольниц — поморов и казаков, силами которых за короткий срок произошло освоение Урала и Сибири. На перекрестке потоков вечевых людей севера и вольных людей юга синтезировалась новая русско-уральская (по очагу ее формирования) культура высокой мобильности и колонизационной активности.
До XVIII в. Урал осваивали преимущественно выходцы с Русского Севера [3]. Затем случилась одна из петровских геополитических метаморфоз: столица переместилась на север в Петербург, а на Урал пошел поток переселенцев из центра страны для строительства горнодобывающих и оружейных заводов. Новая магистраль, выстроенная столичными чиновниками и европейскими мастерами, вовлекла в поток колонизации русских крестьян, мастеровых и торговцев. Среди них был туляк Никита Демидов, на свой лад повторивший опыт новгородца Аники Строганова и создавший на Урале мощную промышленную вотчину. Одновременно здесь появились беглые и высланные старообрядцы, в том числе мятежные московские стрельцы, выходцы из скитов Выга (поморцы) и Керженца (кержаки). По неслучайному совпадению, на Урале в очередной раз сошлись два разнохарактерных, если не враждебных, потока — военно-промышленный и духовно-раскольничий. И в очередной раз они парадоксально слились в самобытную горнозаводскую общность. Странный, на первый взгляд, сплав нового дела и старой веры объясняется не единством интересов горных мастеров и ревнителей благочестия, а их полным расхождением. Урал располагал к «монтажу» исходно различных мотивов при условии их ситуативной адаптивности, и религиозное хладнокровие заводчиков оказалось органично совместимым с упорством и замкнутостью староверов.
Города-заводы существенно обновили мультикультурную среду Урала и создали новую магистральную культуру, соединившую рудники, домны, капиталы, рынки, сухопутные тракты и речные сплавы. Урал не стал тихой заводью русскости. Более того, именно здесь была особенно заметна мозаичность русской культуры. По-разному строили дома, говорили, одевались и молились потомки поморов и казаков, никониане и старообрядцы, обрусевшие немцы и коми-пермяки. Иногда русские общины разделялись культурными барьерами, вплоть до неприятия смешанных браков. Еще недавно «часовенные» чурались «церковных», «заводские» — «крестянья», «гамаюны» — «пиканников». Для одних российский царь был стержнем идентичности, для других (особенно Петр I) — антихристом. Многоликая уральская русскость усложнялась и тем, что народившаяся горнозаводская идентичность ассоциировалась не в последнюю очередь с языками, манерами и характерами немецких, голландских, шведских, итальянских горных мастеров. Заводской Урал был пропитан не только русским духом, но и голландским, особенно благодаря заслугам основателей уральского горного дела — Андрея Виниуса, главы Сибирского приказа и Приказа артиллерии, проектировавшего на рубеже XVII–XVIII вв. первые заводы на Урале, и Геор га Вильгельма де Геннина, устроителя и начальника уральских заводов в 1722–1734 гг.
Словами К. И. Зубкова, «индустриальное горнозаводское ядро» стало экономическим «центром тяжести» и «регионообразующей осью» Урала. Правда, до 1861 г. жесткий столичный бюрократический контроль не позволял Уралу выработать свою региональную идентичность. Впоследствии два взаимосвязанных фактора способствовали зарождению представления об особой, отличной от других, судьбе Урала — самодостаточная индустриальная экономика и сложившийся круг местной промышленной олигархии и интеллигенции [4].
В начале ХХ в. Средний Урал стал еще более русским и полиэтничным — одно не противоречило другому. В городах Урала обосновались группы татар, евреев, поляков, немцев, способствовавшие торгово-индустриальному развитию края. В Пермской губернии в 1908 г. из более 3 млн. жителей русские составляли 90,9 %, за ними численно следовали башкиры (3,1 %), коми-пермяки (3 %), татары (1,5 %), черемисы (0,5 %), вотяки (0,24 %), вогулы (0,07 %) [5]. Столыпинские реформы вовлекли в поток переселений крестьян белорусов, латышей, эстонцев, немцев-колонистов. Транссибирская магистраль внесла новые оттенки в этнокультурную мозаику Урала. В 1890-е гг. население Челябинска, ставшего резиденцией управления строительством железной дороги и центром пересылки, выросло с 10 до 70 тыс. человек; в городе наряду с церквами появились мечеть и костел; за полтора десятка лет переселений через Челябинск проследовало более 15 млн. человек, часть которых осела на Урале. В годы I Мировой войны на Урале в качестве контрактных рабочих трудились китайцы и корейцы.
Перепись 1926 г. в Уральской области учла представителей более 70 народов. В годы индустриализации и коллективизации Урал пополнился сотнями тысяч присланных, сосланных и добровольно приехавших переселенцев. В 1930-е гг. произошли массовые перемещения людей на строительство уральских гигантов социндустрии. Пестрота национального состава усилилась вследствие притока в регион раскулаченных, репрессированных и депортированных в 1920–1940-е гг. Из этой смеси народов и «врагов народа» выплавлялась уральская часть «советского народа».
Депортация и эвакуация периода II Мировой войны стали последними в ХХ в. массовыми переселениями на Урал. В 1941–1942 гг. в города Северного Урала были депортированы поволжские немцы. Эвакуация принесла на Урал новую многоэтничную волну: среди прибывших на 1 октября 1941 г. по эвакуации в Свердловскую область русские составляли 54,5 %, евреи — 30, украинцы — 9,7, белорусы — 2,9, латыши — 0,7, поляки — 0,5, эстонцы — 0,4, литовцы — 0,2, молдаване — 0,04. В 1941–1943 гг. на Урале жили в эвакуации представители 60 народов из 52 областей и республик страны [6]. Кроме того, Свердловская область в годы войны была одной из крупнейших советских лагерных систем, и после войны (в 1946 г.) на стройках, лесоповалах и промышленных предприятиях Урала подневольно трудились более 82 тыс. иностранных военнопленных [7].
К 1960-м гг. стихия переселений, депортаций и репатриаций на Урале улеглась. В новых миграционных потоках, нацеленных на целинный Казахстан и нефтяную Западную Сибирь, Урал участвовал уже в качестве донора. В по следние десятилетия увеличилось число кавказских и среднеазиатских мигрантов; например, по данным переписи 2002 г., среди 12-миллионного населения Уральского федерального округа 8-ю строчку после русских (82,74 %), татар (5,14 %), украинцев (2,87 %), башкир (2,15 %), немцев (0,65 %), белорусов (0,64 %) и казахов (0,6 %) занимали азербайджанцы (0,54 %), а 12-ю вслед за чувашами (0,43 %), марийцами (0,35 %) и мордвой (0,31 %) — армяне (0,3 %).
Устойчивость и изменчивость
Нередко консервативность общности и ее культуры оказывается лишь эффектом внешнего восприятия, и внимательный взгляд в этноисторию обнаруживает динамику традиций и этничности. Например, кажущиеся патриархальными уральские тундровые кочевники-ненцы (самоеды) относительно недавно, 3–4 столетия назад, пережили коренное преобразование культуры и общественных отношений, вызванное так называемой оленеводческой революцией XVI–XVII вв. Прежде они были рассеянными по просторам Арктики и Субарктики группами охотников на дикого оленя и морского зверя. Оленеводческая революция была ответом на скандинавскую и российскую колонизацию Севера, и массовые миграции тундровых охотников сопровождались борьбой за стада оленей и отдаленные территории. В этой борьбе лидерство захватила североуральская Карачейская орда, распространившая свое влияние по урало-западносибирским тундрам. Собственно вожди Карачейской орды и создали этнокультурное единство, называемое сегодня ненцами, причем в их состав вошли представители других групп, например, северные ханты и манси (роды «хаби»), энцы (роды «мандо»). В условиях турбулентного ХХ века ненецкая культура проявила поразительную стойкость и жизнеспособность за счет своей кочевнической гибкости и адаптивности к переменам.
Другой коренной уральский народ — таежные манси (вогулы) — нередко представляется носителем древнейших прауральских традиций. Однако его этноисторическая судьба полна драматических сюжетов. Летописная югра, с которой связаны этнические корни манси, исчезла под напором колонизации XVI в., а из ее фрагментов сложились сообщества, поименованные вогулами и остяками. В обоих случаях решающую роль в этнических метаморфозах сыграли религиозно окрашенные факторы колонизации: западную часть бывшей югры московиты стали называть по-зырянски вогулами, а восточную — по-татарски остяками в одинаковом значении «дикари-язычники». Позднее у вогулов-манси сохранялась локальная разобщенность на четыре группы диалектов, отличающиеся друг от друга настолько значительно (на уровне языка), что об исторической общности этих групп можно говорить с большой долей условности. Современное единство манси поддерживается не столько этнической, сколько административной традицией и усилиями общественных деятелей.
Уральские марийцы (восточные мари, чимари, черемисы) характеризуются как хранители этнических устоев, в том числе язычества. Сеть из трех десятков сравнительно многочисленных и этнически однородных селений мари на Среднем Урале сохранилась на протяжении трех-четырех столетий. И в ХХ в., по мнению Л. Н. Мазур, «из всех национальных групп поселения марийцев оказались наиболее устойчивыми к модернизационным изменениям» [8]. Однако само по себе появление мари на Урале было итогом этнической катастрофы — черемисского раскола, когда «горная черемиса» приняла сторону Москвы, а луговая самоотверженно сражалась с ней, ища поддержки у всех соседних ханств и орд. В начале 1550-х гг. луговые мари бились с московскими ратями на стороне Казанского ханства; после его падения начали 1-ю черемисскую войну (1552–1557) в союзе с Ногайской ордой, затем 2-ю (1571–1574) — при поддержке Крымского ханства, наконец 3-ю (1581–1585) — совместно с Сибирским ханством и пелымскими вогулами. На Урале, куда бежала от Москвы почти треть черемисов, бунтари нашли убежище и мир (за исключением первых стычек с войсками Строгановых). Впоследствии, уже в московском подданстве, им удалось сохранить исконное язычество, правда не всем. Часть мари отдалась под покровительство кочевых башкир, поселившись в их вотчинах на правах «припущенников» и со временем заимствовав их язык и религию. Вместе с другими мигрантами с Волги «черемисы по припуску» стали именоваться тептярями. Подобные этнические новообразования (мишари, нагайбаки, кряшены, бесермяне) складывались в XVII– XIX вв. на Урале в ходе конфессиональных и административных преобразований.
Крупнейший тюркоязычный народ Урала — башкиры — сложился на перекрестке евразийского движения древних алтайцев, уральцев и индоевропейцев, оказавшись причастным судьбам средневековых мадьяр, огузов, кыпчаков, булгар, монголов, татар. Механизм формирования кочевых сообществ (орд) не только допускал, но и предполагал объединение различных по происхождению и языку групп под началом элитной группы и ее вождя (в праистории башкир реконструируется условная фигура одного из таких вождей по имени Баш-корт — «Вожак-волк»). Степная власть отличалась острой состязательностью, жесткостью и недолговечностью — очередной лидер-победитель мог по своему усмотрению смешать и переименовать прежние улусы и орды, как это случалось в истории тюркских каганатов, Монгольского улуса, Орды и, вероятно, башкир. В эпоху кочевых ханств устойчивым был «механизм ордообразования», а не сами орды. В российскую эпоху обстоятельствами устойчивости сообщества башкир стали два разновременных, но содержательно сходных союза с Москвой. Первый московско-башкирский союз сложился в войне с Казанским ханством в 1552 г., второй — в ходе борьбы большевистской Москвы за имперское пространство в 1918–1919 гг. Оба имели условием и следствием признание за башкирами территориальной автономии: в первом случае как вотчинного права на территорию кочевий, во втором — как административной автономии Башкирии. Привилегированный статус башкир был и остается ключевым фактором их этносоциальной сплоченности, а также пополнения общности за счет иноэтничных групп, например, подконтрольных кочевникам по условиям «припуска» тептярей.
Однако административные привилегии по-своему изменчивы, причем не всегда по согласованию сторон. Неоднократными восстаниями в XVII–XVIII вв. башкиры отстояли свое вотчинное право и приобрели статус военно-служилого сословия, наподобие казачества. Башкирские конные полки сражались под знаменами империи в составе регулярных войск (например, в войне с Наполеоном), а в уральских степях их кочевая власть шла на убыль. Постепенное оседание башкир привело к утрате ими реального контроля над вотчинным пространством (оседлые селяне не обладают свойственной кочевникам властью над территорией). Кантонная система управления, введенная в Башкирии и Пермском крае с 1798 г. и предусматривавшая несение башкирами линейной пограничной военной службы, была упразднена в 1863 г. Бывшие вотчинники-кочевники неожиданно оказались на положении рядовых сельских жителей.
Лишенное привилегий башкирское сообщество пережило болезненный кризис идентичности, особенно на фоне преуспевших в мусульманской духовности и учености соседей-татар. Было время, когда переселявшиеся с Волги татары становились припущенниками во владениях башкир и звались тептярями. Ныне ситуация изменилась, и поблекший военносословный статус башкир уступил первенство культурно-религиозному статусу татар. Как отмечает Д. М. Исхаков, прежде в разделении тюркоязычных групп Урала на татар и башкир существенную роль играл административный фактор: «оказавшиеся в Кунгурском уезде стали ясашными и получили название “ясашных татар”, а попавшие в ведомство г. Уфы… были наделены вотчинными правами и именовались “башкирами”». Во второй половине XIX в. многие башкиры стали считать себя татарами, а к концу столетия в состав уральских татар вошли 124 тыс. башкир, 4,3 тыс. бесермян и несколько тысяч чувашей [9].
Без учета этих обстоятельств демографическим казусом выглядит резкий спад численности башкир и соответствующий прирост уральских татар в начале ХХ в. (по переписи 1926 г. в Уральской области татары составили 2,85 % населения, башкиры — 0,87 %), равно как и последующие «поиски идентичности» среди уральских тюркоязычных групп. Жители ряда деревень (Бишково, Куянково, Озерки, Рахмангулово, Усть-Баяк, Усть-Бугалыш Красноуфимского уезда), которые прежде определялись «по сословию — башкирами, а по национальности — татарами», в переписи 1926 г. отнесли себя к татарам. Другая группа, назвавшаяся в 1926 г. башкирами (дер. Сызги, Озерки, Азигулово (половина), Артя-Шигири, Акбашево, Уфа-Шигири, Аракаево, Перепряжка), к концу 1950-х гг. тоже стала считать себя татарами. Проблемы самоидентификации привели к тому, что численность башкир и их поселений с течением времени упала, а татар, наоборот, возросла [10]. В ряде мест возникли сообщества, которые предпочли выбор не одной, в сдвоенной идентичности — например, жители Тулвинского поречья, называющие себя башкирскими татарами или татарскими башкирами. Как полагает А. В. Черных, «этническое самосознание тулвинских татар и башкир является двойственным и многоуровневым по своей структуре. Причинами, повлиявшими на становление сложной структуры этнического самосознания, следует считать многокомпонентный характер формирования группы и сложную социальную структуру ее населения (вотчинники и припущенники)» [11]. По переписи 2002 г., в нескольких уральских селениях (например, Уфа-Шигири) на месте татар вновь стали появляться башкиры, и связано это с этнической переориентацией отдельных представителей сельской интеллигенции. Соседям невдомек, что происходит с идентичностью башкир и татар. По словам русской жительницы Красноуфимского района, нынче у них «все перемешалось… Они могут зваться башкирами и быть татарами, или зваться татарами и быть башкирами» [12].
Самая крупная этническая общность Урала — русские — по демографическим параметрам представляется многочисленной и устойчивой. Однако далека от устойчивости сама русскость — по условным подсчетам, за истекшее тысячелетие она претерпела существенные сдвиги около двадцати раз, включая христианизацию, ордынскую татаризацию, петровскую европеизацию, державную национализацию, советизацию и десоветизацию [13]. В уральском измерении заметное изменение русской идентичности произошло на рубеже XVII–XVIII вв., когда преобладавший прежде северный «строгановский» поток колонизации сменился центральным «демидовским». Не знавшие крепостного права поморы существенно расходились в ценностях и мотивациях с пригнанными на Урал целыми деревнями крепостными из центральной России, для самосознания которых до сих пор значима, например, история о том, как один помещик проиграл их в карты другому. В XVIII–XIX вв. на первый план вышла «высокая русскость» уральских горожан (заводских) с ее культом дела и самобытным аристократизмом, выразившаяся, например, в яркой русско-уральской литературной традиции (Д. С. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов и др.). Для Урала особенно чувствителен раскол русской идентичности по конфессиональной грани между «церковными» и старообрядцами разных согласий. Один мой знакомый старовер самоопределился кратко: «Я-то кержак, а жена у меня русская». Другой высказался пространнее: «Господу все языцы угодны, и разницы нет, черный ты или белый, немец, еврей или русский. Лозунги о русском народе — ничто для христианина. Это телесно. Все христиане — одно тело, от одного духа. Нация — ничто, телесность. Духовно мы все — создания Божьи».
К. И. Зубков отмечает, что на Урале смешанная структура расселения и интенсивные межэтнические контакты «предопределили в конечном итоге развитие региона в русле устойчивого межнационального консенсуса». Решающее воздействие на его формирование оказали индустриализация и урбанизация, отток населения из аграрных районов и снижение остроты земельного вопроса, порождавшего межэтническую конфликтность [14].
В административных структурах Урала (Свердловской, Пермской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях) нет специальных департаментов по этнонациональной политике. Однако в 2009–2010 гг., по данным Министерства культуры Свердловской области, на Урале состоялось более 300 различных мероприятий этнокультурного профиля. Около 90 общественных организаций Свердловской области (национально-культурные автономии, национально-культурные общества, центры национальной культуры, землячества, общины) действуют в сфере этнокультурного развития и межнациональных отношений. Этот стиль вписывается скорее в категорию «народной дипломатии», чем этнонациональной политики (хотя дирижерская рука региональной администрации иногда ощутима). Личное знакомство с лидерами этих сообществ — при проведении форумов «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология» — не оставило у меня сомнений в самостоятельности и активности их персональных позиций. Диалог впечатляет и тем, что позиционирует не столько конкретные этнические интересы, сколько стремление к их балансу. Доля споров на форуме, вопреки злоязычным прогнозам, оказалась несравнимо меньше совместного мониторинга ситуации и конструктивного проектирования. Примечательно, что лидеры разных общин не просто высказывают на форуме свои мнения, но и предварительно созваниваются для выработки общих подходов. Впечатление от форума выразилось у меня в понятии «этнодипломатия», обозначающем умение (или искусство) бесконфликтно позиционировать свою этничность в межэтническом диалоге.
За пределами научных и культурных этнофорумов тема этничности на Урале выражается не в громких дискуссиях, а в обыденной этике, которая тоже имеет отношение к этнодипломатии, но не доведенной до профессионализма, а вплетенной в повседневность. Подобная этнодипломатия характерна для ситуаций, когда буквально через дорогу друг от друга соседствуют марийская, русская и татарская деревни (например, Татарская Еманзельга, Русская Еманзельга и марийские Сарсы в Красноуфимском районе Свердловской области). До сих пор на локальном уровне разные группы русских гамаюнов и пиканников, башкир и татар осознают себя общинами с сохраняющимися особенностями расселения, быта, говора, социальных ценностей, брачнородственных ориентаций. Судя по всему, независимые мотивы формирования этих общин надолго предопределили их локальную самобытность в социальном пространстве Урала. Исторически этому способствовала и относительная замкнутость общин-заводов, сосредоточенных на собственном деле. Локальная автономия общин-селений сдерживала их смешение (нередко подкрепляемое эндогамными предпочтениями) и создавала основу сдержанного диалога, в котором каждая община обладала своим голосом и имиджем.
За столетия, если не тысячелетия, в динамичной мультикультурной среде Урала формировались различные схемы этнодипломатии. Сегодня на основе этогомногослойного фонда сложился отмечаемый многими местными жителями и внешними наблюдателями тон взаимного уважения различных по происхождению, религии и языку сообществ — своеобразная «уральская толерантность». В. А. Тишков со свойственной уральцу свободой от магии этничности настаивает на том, что «этническая идентичность может определяться в том числе сложными словами: русский еврей, украинец-русский, татаро-башкирин и т. п. По мнению некоторых специалистов, подобные люди относятся к категории этнических маргиналов. На самом деле, это, скорее, норма для российского (не менее трети населения — потомки от смешанных браков) и подавляющего большинства других гражданских сообществ… Маргинальность нами видится именно в уходе в монокультуру, а не в выходе из нее» [15].
Бренд Урала
Понять себя, чтобы продать себя? Чем вызвано охватившее недавно Урал (как и другие края и города России) branding-движение? Вообще-то «бренд» — товарно-фирменный знак, и применительно к людям и территориям это понятие может служить лишь имиджево-рыночной метафорой. Постсоветская ментальная революция столь стремительна, что за два десятилетия коммунистические ценности почти без остатка конвертировались в условные единицы рынка. Одним из таких эквивалентов стал «бренд», который удобнее «образа» или «имиджа» тем, что напрямую ориентирован на информационное поле рынка. Поскольку рыночная конвертация мировоззренческих ценностей предполагает их ревизию и менеджмент, все природное и культурное достояние подвергается своего рода инвентаризации, в ходе которой у прагматичных наследников пробуждаются романтичные предковые архетипы. Так тема бренда переходит в дискуссии об имидже, достоянии, идентичности и т. д.
Писатели, телевизионщики, чиновники, дизайнеры, историки, музейщики — каждый на свой лад — вносят вклады в бренд Урала. Идея бренда стронула с места поиск уральской идентичности. Такого не случалось ни в годы существования Уральской области (1923–1934 гг.), ни в дни провозглашения Уральской республики (июль–ноябрь 1993 г.). Лишь на третий раз, как заведено в русской сказке, идея самобытности Урала чудом ожила.
В российской традиции мало что продвигается без административного плеча, и в данном случае поиск уральской идентичности в значительной мере обусловлен учреждением в 2000 г. Уральского федерального округа. Как ни усечены очертания УрФО относительно реальной географии (весь западный Урал не включен в УрФО), официальная номинация Урала как геополитического феномена служит мотивом имидж-строительства, и в этом смысле сам по себе УрФО — ключевой имидж (бренд) Урала. Не случайно сегодняшний брендинг-бум на Урале во многом опирается на поддержку руководства УрФО [16].
Дело не только в политической воле, но и в психологии. Неназванного нет. Креативная мощь слова ничуть не уменьшилась со времен творения Завета. Речь идет о древнейшей гуманитарной технологии — магии названия. Размышления о том, что вначале все-таки было Дело — то, для чего и нашлось Слово — лишь отчасти верны, поскольку именно слово отбирает приоритеты среди кишащих дел.
Урал с палеолита кишит делами, особенно преуспев в этом в бытность свою «горнозаводской цивилизацией» (выражение П. С. Богословского) и «опорным краем державы» (выражение А. Т. Твардовского). Углежоги и рудокопы не поднимали головы от своих дел и не ведали, что они создают «горнозаводскую цивилизацию». А вот горные начальники без бренда обойтись не могли, поскольку выступали в роли демиургов, и само звание «горный начальник» — удачный бренд своего времени. Первый горный начальник В. Н. Татищев мыслил имперски, чередуя масштабы истории России и горного дела Урала: «Уральские горы суть знатнейшие во всей империи».
Накопление уральских имиджей-брендов, часто непроизвольное, шло на протяжении всей праистории и истории Урала, особенно ярко выразившись в образах финно-угорских богов и ордынских ханов, Ермака и Салавата Юлаева, орды Каменных самоедов и Яицкого казачьего войска, Строгановых и Демидовых, героев Мамина-Сибиряка и Бажова, танкограда и атомграда, Наутилус Помпилиус и Ельцина. И в последние годы уральский бренд-арсенал непрерывно пополняется: Храм-на-Крови, УП–УП (проект «Урал промышленный — Урал полярный»), гигантский Уральский федеральный университет. Для одних Урал — Каменный пояс (как в романе Е. А. Федорова), для других — гнездо староверов, для третьих — легендарный грузовик (у Берингова пролива мне довелось слышать шоферскую поговорку: «“Урал” — король Чукотки»).
Иногда кажется, что больших и малых образов Урала так много, что лучше их не считать, а представить в виде горы самоцветов. Правда, это изобилие сотворено не природой и не Оленем Серебряное копытце, а упорными уральцами (это упорство, гармонирующее с физической коренастостью, всегда выделяло «уральский характер» и на заводах, и на фронтах). Осваивая горную страну, уральцы из века в век перерабатывали ресурсы природы в ресурсы культуры, и фонд этого наследия впечатляет не меньше, чем сокровища недр. Освое ние «гуманитарных залежей» Урала всерь ез только начинается, и, вероятно, нынешнее имиджстроительство — симптом проявления и осознания уральской идентичности.
Одним из первых за разработку «уральской матрицы» взялся писатель Алексей Иванов. Проект «Хребет России», выполненный им совместно с Леонидом Парфеновым и Юлией Зайцевой в формате телепрограммы, а затем в виде книги-альбома, вобрал в себя уральские образы от мифического Полюда и легендарного Ермака до ядовитого Карабаша и лихих уралмашевских братков. В этом калейдоскопе автор отыскал устойчивые черты, образующие «уральскую матрицу» — «набор оправданных опытом стратегий поведения», «параметров местной идентичности» [17].
А. В. Иванов не только знает, но и чувствует Урал. Возможно, его «матрица» — больше плод ощущения, чем размышления. Все обозначенные им уральские черты — «место встречи», «преображение», «труд», «неволя» — посвоему точные штрихи, к тому же талантливо и ярко прописанные. Особенно хороши характеристики Труда и Мастера, поддержанные афористичными формулами: «Главный герой Урала — человек труда: Мастер»; «Павел Бажов — творец уральской идентичности» [18].
Но всякий раз Урал выходит за рамки лекал. В спектре вариаций одно и то же свойство переходит в свою противоположность. Урал — место встречи или место уединения? И то и другое. К иллюстрациям места встречи на «Хребте России» (Руси и Орды, Строгановых и Кучума и др.) можно добавить как более древние (контакт европеоидов и монголоидов, предков уральской, алтайской и индоевропейской языковых семей), так и более свежие (саммиты ШОС и БРИК). Однако Урал был и местом уединения-укрытия инакомыслящих и инаковерующих — непокорных язычников-вогулов, беглых новгородцев, разбойных казаков, мятежных черемисов, упрямых староверов и т. д.
В матрице Иванова человек Урала — человек неволи. Со времен Ермака «неволя стала базовым принципом существования уральской Матрицы… Неволя работников — главный ресурс горнозаводской державы». Даже вольный атаман Ермак предстает в «Хребте России» рыцарем неволи, поскольку он «выбрал не награду, а царскую службу» [19].
Звучащая как заклинание «неволя» видится А. В. Иванову «базовым принципом» нравственности уральца. Правда, «матрица неволи» иногда дает сбои, а от луча свободы сразу блекнет. Она гармонирует лишь с горнозаводской жизнью, и то применительно к работному люду до отмены крепостного права. Из нее выпадают ключевые характеры русскоуральского мира — северные промышленники и казачьи атаманы, Строгановы и Демидовы. Манифест 1861 г. обрушил уральскую горнозаводскую державу, но «свобода не убила Матрицу — просто загнала ее в подсознание, как звериные инстинкты». Вне матрицы оказался капитализм с железными дорогами, а в начале ХХ в. «Урал отринул свою Матрицу, но оказался не на свободе, а в матрице Российской империи». Неволя возродилась на Урале при советской власти в облике Гулага [20].
Как видно, охарактеризованные Ивановым образцы «матрицы неволи» — не исконно уральские, а импортные. Они привнесены на Урал в виде российского крепостного права и советского Гулага. Возможно, неволя на Урале — не наследственная черта, а занесенный извне вирус. Автор это интуитивно улавливает и пытается оправдать уральскую неволю как своего рода волю: «Выбор неволи — это уральское понимание свободы. Свободы социальной, экономической и свободы духовной, когда человек вместо свободы подчиняет жизнь сверхценности своего дела на этой земле» [21]. Этот парадокс увлекателен, но относится не к «уральской матрице», а к экзистенциальной философии, где любая воля имеет изнанкой долг и ответственность, а абсолютная свобода возможна лишь в гробу.
И в русскую эпоху Урал не был краем неволи на фоне остальной России и Евразии. На исходе средневековья он оказался такой же вольной окраиной русского мира, какими были поморский Север и казачье Дикое поле. Более того, именно на Урале эти два потока вольницы сошлись и двинулись «встреч солнцу» на покорение Сибири в ту самую пору, когда Москва была сломлена тиранией и смутой. Позднее здесь нашли приют себе и своей вере язычники-черемисы и русские староверы. На Урале осуществились немыслимые для центральной России предпринимательские проекты Строгановых и Демидовых. И в новейшую эпоху именно Урал дал России когорту смелых политиков во главе с Борисом Ельциным, сокрушивших (может быть, чересчур размашисто) советскую власть.
На мой взгляд, характерная черта Урала — воля и предприимчивость, а вовсе не беспросветная неволя. Вариации этого свойства, от авантюризма Ермака до проектной дипломатии Демидовых, заслуживают особого историко-антропологического внимания. Впрочем, сам по себе спор о воле и неволе предостерегает от категоричных суждений: для одних уральцев заводской гудок был символом подневольного труда, для других — успеха и власти. Тем более рискованно выдвигать этикофилософскую категорию в качестве бренда. Вернее иметь дело с олицетворяющими Урал персонажами, притом не в иконной стилизации, а в живой драматургии историко-антропологических портретов.
Тестовый смотр уральских бренд-имиджпроектов на специальной сессии в рамках прошедшего 10–15 апреля 2011 г. в Екатеринбурге VII Российского фестиваля антропологиче ских фильмов и форума «Многонациональная Россия» показал многоликость Урала в его измерениях от Арктики до Великой степи на перекрестке Европы и Азии с древности до современности от геологии до политики. Представленные медиа-проекты условно разделялись на категории «Образ Урала», «Древности Урала», «Урал-Завод», «Урал-Камень», «Уральцы». От многообразия подходов и образов возникло ощущение неисчерпаемости темы и трудности обобщения имиджа Урала в брендовой формуле. Впрочем, бренд-поиск только стартовал, и он не завершится без интересных находок. Главным же смыслом бренд-движения можно считать не формулировку единственно верного имиджа, а открытие поля конкуренции разных имиджей-брендов, активацию культурного и природного наследия.
В дискуссии на сессии звучала критика по поводу преобладания в презентациях археологии и мифологии вместо тематики современного индустриального Урала. Замечание правомерно, как правомерен и акцент на мифологии, поскольку у бренда и мифа немало общего. Урал обладает примечательным свойством: мифологически он замкнут на себя и вполне обходится без тридевятого царства; чудеса творятся не за морем, а прямо здесь, у Медной горы и в Золотой долине, на Иткуле и Большом Щучьем озере, на Мань-Пупы-Нер и Перевале Дятлова. Для идентичности мифология показательнее любых экономических и демографических расчетов — если есть своя мифология, есть и самобытность. Ссылки:
[1] См.: Павлов П. Ю., Робрукс В., Свендсен Й.-И. Средний палеолит и ранняя пора верхнего палеолита на Северо-Востоке Европы // II Северный археол. конгресс. Докл. Екатеринбург–Ханты-Мансийск, 2006. С. 290, 300. [2] Из последних работ см.: Koryakova L., Epimakhov A. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. Cambridge University Press, 2007; Боталов С. Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция). Челябинск, 2008; Овчинникова Б. Б., Дьёни Г. Протовенгры на Урале в трудах российских и венгерских исследователей. Екатеринбург, 2008. [3] Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII — первой половине XIX века. Пермь, 1995. С. 4. [4] Зубков К. И. Политический регионализм в Азиатской России: уральский прецедент // Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века. М., 2004. С. 450, 451. [5] Свод данных, помещенных в «Списках населенных мест Пермской губернии», изд. 1908–1909 гг., и другие краткие статистические сведения о Пермской губернии. Пермь, 1910. С. 22, 23. [6] Потемкина М. Н. Эвакуация и национальные отношения в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (на материалах Урала) // Отечественная история, № 3. 2002. С. 148–155. [7] Суржикова Н. В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942–1956 гг.). Екатеринбург, 2006. С. 64. [8] Мазур Л. Н. Народы Среднего Урала в структуре сельского расселения (XX в.) // Известия Уральского государственного университета, № 49. 2007. [9] Исхаков Д. М. Этнографические группы татар ВолгоУральского региона. Казань, 1993. С. 38, 39. [10] Мазур Л. Н. Указ. соч. [11] Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты. Пермь, 2004. С. 42. [12] Материалы этнографической экспедиции 2008–2009 гг. под руководством А. В. Головнёва по гранту РГНФ-Урал. № 08-01-83113а/У «Идентичность современного русского и татарского населения Урала: этнография и визуальная антропология». Участники: Ю. В. Зевако, А. Е. Курлаев, А. С. Палкин, Д. Н. Федорова. [13] Головнёв А. В. Дрейф этничности // Уральский исторический вестник № 4(25). 2009. [14] Зубков К. И. Указ. соч. С. 460, 461. [15] Тишков В. А. О культурном многообразии // Этнографическое обозрение № 1. 2005. С. 10, 21. [16] См.: Проект «Хребет России» // Уральский федеральный округ: http://www.uralfo.ru/russian_ridge_proj.html. [17] Иванов А. В. Хребет России. СПб., 2010. С. 15. [18] Там же. С. 131, 153. [19] Там же. С. 47, 185. [20] Там же. С. 35, 189, 195, 197, 211. [21] Там же. С. 47. |
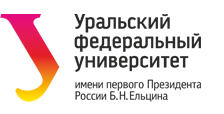 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |