Антропологических Фильмов кинофестиваль |
Крупный план в антропологии
Поклоннику макроистории в названии статьи может почудиться нечто масштабное и непременно социально-политическое вроде советского плана коллективизации или электрификации. Однако речь идет о другой «крупности» — об изображении человека с его пристрастиями и мотивами, настроениями и притязаниями. Цель этой пристальности состоит не только и не столько в прорисовке портрета, сколько в погружении в индивидуальность персонажа и в рассмотрении эпохи (жизненной ситуации, культуры, политики) его глазами. В этом случае исследователю приходится менять свою идентичность на идентичность своего героя, оставляя в стороне сегодняшние оценки и обращаясь к ценностям изучаемой культуры. Иначе говоря, эпизоды японской истории приходится читать по-японски, а португальской — по-португальски.
Позиция исследователя зависит от его метаисторической ориентации. Привычный линейно-эволюционистский подход, постфактум «выпрямляющий» историю в прогрессивную непрерывность, вынуждает анализировать события и явления в свете их итогов и значимости для «всемирно-исторического процесса». Альтернативный историко-антропологический подход нацеливает на воссоздание ценностей и атмосферы исследуемой эпохи in situ — с присущими ей категориями и технологиями. Антропология движения еще более персонифицирует историю, смещая акцент с итогов на истоки, пытаясь реконструировать индивидуальную мотивацию и момент преобразования мотива в действие.
Без вживания в реальный образ историческая реконструкция остается в лучшем случае внешним обзором, сколько бы имен и цифр он ни содержал. Более того, вживание предполагает сопричастность не статичную (иконографическую), а динамичную (кинематографическую), которая позволяет сопережить не только миг (стоп-кадр) успеха, но и сложный путь героя со всеми его поворотами и тупиками. В этом смысле крупный план в антропологии сродни не портретному рисунку, а крупному плану в кинематографе.
У антропологии и кино немало общего. Они — почти ровесники, родились в XIX в. и достигли зрелости в 1920-е гг. Первые опыты этнографических съемок состоялись вскоре после изобретения синематографа. Начальной датой этнографического кино французский этнолог и режиссер Ж. Руш считал 4 апреля 1901 г., когда У. Б. Спенсер снял ритуальный танец австралийских аборигенов [1]. Правда, есть сведения о еще более ранних этнографических съемках А. К. Хэддона в ходе экспедиции на Торресовы острова в 1896–1898 гг [2]. По мнению К. Хайдера, «если этнографический фильм был зачат в 1901 г., то его рождение произошло 11 июня 1922 г., когда в Нью-Йоркском театре был показан фильм Р. Флаэрти “Нанук с севера”» [3]. Флаэрти снимал свой фильм в тех же эскимосских снегах, где несколькими годами ранее складывалась антропология Ф. Боаса. По неслучайному совпадению синхронно с первым этнографическим фильмом, в том же 1922 г., вышли открывшие новую эру в антропологии «Аргонавты Западной Пацифики» Б. Малиновского и «Андаманские островитяне» А. Р. Рэдклифф-Брауна. В этих разных по жанру шедеврах немало общего, прежде всего — в технологии вживания в изучаемую культуру и в способах ее представления через образы и действия реальных людей в конкретных жизненных ситуациях. Это уже не наблюдение снаружи, а взгляд изнутри. Р. Флаэрти вполне этнографично вживался в культуру: среди эскимосов он прожил более одиннадцати лет, на Самоа — почти два года, в Ирландии — полтора года, в Луизиане — год. «Сначала я был исследователем, потом стал художником», — говорил он о себе. Об искусстве этнографического кинопортрета он заметил: «В каждом народе есть зернышко величия, и дело кинематографиста… найти тот единственный случай или даже одно-единственное движение, в которых это величие проявляется» [4].
Антропологию и кинематограф роднит не только история становления, но и методика работы. Так называемое включенное наблюдение — их общий исследовательский метод. Ремесло антрополога и историка — монтаж фактов (текстов) — подобно монтажу кадров в кинематографе. Законченность действия — канон съемки и монтажа в кино — элементарная единица (атом) антропологии движения. Думаю, не повредит антропологии и заимствование из арсенала кино понятия «крупный план».
Визуализация
Изобразительный язык кино в съемке и монтаже сочетает различные планы: дальний, общий, средний, крупный. Дальний план изображает человека точкой в пространстве, крупный — передает его настроение. Часто крупным планом снимается лицо героя, а через мимику выражаются его эмоции, реакции, мысли. Крупный план — всегда событие, крещендо, нередко кульминация, хотя существует он не сам по себе, а в монтажном ряду, через который зритель вольно или невольно вживается в образ киногероя и погружается в сопереживание. В темноте кинозала реальностью становится экран, в который перемещается зритель, и вовсе не для того чтобы рассмотреть поближе портрет, а для того чтобы пережить вместе с героем происходящие события.
Киноведы традиционно отличают крупный план от кинопортрета, который, даже будучи наполнен «движением, действием, со свободным развитием событий во времени, с живой речью, звуком, часто и музыкой, с актерским мастерством и обаянием», служит для характеристики конкретного человека. В отличие от портрета, крупный план как отдельный кадр «не имеет самостоятельного значения — он приобретает истинный смысл лишь в определенном сочетании с другими кадрами, в монтажном сопоставлении» [5].
Впервые крупный план в кино применил Э. Портер в фильме «Большое ограбление поезда» (1903), где преступник в упор стреляет «в зрителя». Позднее классик Голливуда Д. Гриффит в фильме «Много лет спустя» (1908) уже не пугал зрителя крупным планом, а добился им эффекта сопереживания и перехода-наслоения ментальных реальностей. Он показал героиню фильма Энни Ли сначала общим планом, затем крупно — ее лицо, после чего — мужчину (ее мужа) на пустынном острове. Выражение тоски на лице героини и унылый вид безлюдного острова недвусмысленно связывали планы в единую монтажную фразу ожидания-видения, причем крупный план не был самоцелью: он вел «туда, что скрыто за этим лицом» [6]. Правда, хозяева Biograph Studio, где тогда работал Гриффит, выразили неудовольствие по поводу странного монтажного приема, убеждая режиссера, что зритель не поймет подобных скачков. В ответ Гриффит сослался на авторитет Ч. Диккенса, применявшего сходную переброску действия в романах, а кино — тот же роман, только «в картинках».
По мнению С. М. Эйзенштейна, «законы кинематографической перспективы таковы, что таракан, снятый крупным планом, с экрана кажется во сто раз страшнее, чем сотня слонов — общим планом» [7] В теории крупного плана он размышлял над неубедительным эпизодом с «пресловутой голой бабой» в фильме А. П. Довженко «Земля» (1930). Мрачная сцена похорон монтажно сталкивается с образом пышущей плодородием обнаженной женщины. По замыслу Довженко, цветущая женская плоть должна заглушить мотив смерти и поднять настроение фильма до пафоса женского и земного жизневозрождения. Однако, по мнению Эйзенштейна, хорошая идея была плохо реализована, поскольку режиссер не обратился к крупному плану. Вместо сочного «плотоядно ощутимого» образа он врезал в похороны общий план хаты и мечущейся в ней среди домашней утвари голой женщины. «И зритель никак не может отделить от этой конкретной бытовой женщины то обобщенное ощущение пышущего плодородия, чувственного жизнеутверждения, которое режиссер хочет перенести на сцену всей природы, пантеистически противостоящей теме смерти и похорон. Не пускают ухваты, горшки, печь, полотенце, скамейки, скатерти — все эти детали, от которых это тело легко мог бы освободить обрез кадра» [8].
Настаивая на силе и выразительности крупного плана, Эйзенштейн отмечал своеобразие его использования в различных ментальных традициях. В американском кино крупный план подразумевает «приближение», в российском/советском — «значимость». «Мы говорим: предмет или лицо снято “крупным планом”, то есть крупно. Американец говорит: близко (дословное значение термина close-up). Американец говорит о физических условиях вuдения. Мы же говорим о качественной стороне явления, связанной со значением его (совершенно так же, как мы говорим о крупном даровании, то есть таком, которое выделяется по своей значительности из общего ряда, или о крупном шрифте, который неразрывно связан с выделением наиболее существенного и значительного). У американца термин связан с вuдением. У нас — с оценкой видимого… При этом сличении сразу же рельефно выступает главнейшая функция крупного плана в нашей кинематографии — не только и не столько показывать и представлять, сколько значить, означать, обозначать» [9].
Крупный план в кино нередко ассоциируется с магией взгляда и эффектом выражения-притяжения лица. Иногда в памяти запечатлевается не столько сюжет фильма, сколько лица. Таковы, например, пронзительные крупные планы картины М. Калатозова «Летят журавли» (1957). Крупный план редко доминирует в фильме, поскольку он обладает слишком сильным, порой избыточным, воздействием. Впрочем есть картины, целиком построенные на крупном плане, например, классическая киноминиатюра Г. Франка «Старше на 10 минут» (1978). Оператор Ю. Подниекс сумел выхватить из рядов зрителей лицо мальчика, переживающего действия сказки о добре и зле, разворачивающиеся на экране. За несколько минут на его лице сменяются все мыслимые эмоции от крика ужаса и слез отчаяния до высунутого языка ожидания и улыбки счастья. Мне довелось наблюдать, как зрители этого фильма вторят мимике мальчика и сопереживают вместе с ним незримый сюжет сказки. Вернее, лицо ребенка на свой лад повествует о добре и зле, причем с такой силой, что у зрителя даже при воспоминании о фильме на лице отражаются оттенки мимики мальчика.
Эффект крупного плана не всегда помогает реализации режиссерской идеи. Особенно неоправданно его использование всуе — там, где нет погружения или кульминации. О классике антропологического кино Р. Флаэрти работавший с ним режиссер монтажа Дж. Голдман вспоминал: «Флаэрти боялся антикульминации. Одно из его утверждений: “Никогда ничего не разжевывать”. В крупных планах он не любил снимки лица во весь кадр. Он предпочитал профиль и три четверти, словом все, что не открывало лицо целиком, во весь экран. Лицо, снятое крупным планом, выдает слишком много» [10].
Сегодня пресыщенный кинотелезритель требует острых ощущений и лобовых атак, в том числе обилия крупных планов. В свою очередь, режиссеры из побуждений «захвата зрителя» нередко эксплуатируют крупный план за отсутствием иных сценарных или стилевых ходов. Например, он стал общим местом в мыльных операх, и через него зритель легко «роднится» с актерами и сюжетом телесериала. Отношение к крупному плану меняется: в киноиндустрии он становится скорее шаблоном, чем художественным и смысловым приемом. Впрочем это не снижает его активной роли в экранной коммуникации.
Персонификация
Как в кино и романистике, удачная персонификация в антропологии позволяет увидеть культуру или эпоху глазами главного героя — своего рода гида, который ведет читателя по иному пространству и времени. Подобно различию между портретом и крупным планом в кинематографе, в историко-антропологическом описании есть грань между биографией и образом персонажа-проводника. Сама по себе биография — лишь подготовительный материал, который нуждается в «подключении». Она оставляет читателя равнодушным до тех пор, пока судьба персонажа и/или обстановка эпохи не окажется мотивационно актуальной для него.
Между тем историк, археолог или этнограф, погруженный в свои цеховые переживания или послушно следующий научной традиции, не слишком заботится об этом «подключении». Темы вкусной пищи, жилищного уюта и сексуальных отношений — едва ли не самые острые для людей, но этнограф пишет о них так скучно и безлико, что его «типы жилищ» и «брачно-родственные структуры» охлаждают в читателе всякие аппетиты и желания. Археолог, поборов в себе романтика, когда-то пришедшего в таинственную науку о древностях, подсчитывает удельный вес шамота и дресвы в керамике, повествует о статистике скребков и скребел в «культурных комплексах», оставляя в стороне «слишком простые» вопросы о вкусах и интересах древнего человека. Историк довольствуется тем, что ему самому кажется важным (или удобным для карьерного роста),делая вид, будто изученная им «проблема» изъята из архивов вовсе не с целью защиты ученой степени.
Многие исследователи ставят себе в заслугу «введение в научный оборот» каких-либо новых данных, но немногие задумываются над тем, что собой представляет этот «научный оборот», и еще меньшее число экспертов пытается осознанно на него воздействовать. Тем временем «научный оборот», попав в шквал информационной революции, потерял прежние рычаги управления и нуждается в основательном обновлении. С девальвацией многих «больших нарративов» и макроисторических схем у гуманитарных наук сохраняется единственный устойчивый приоритет — человек, которому ничто человеческое не чуждо. В этом смысле «крупный план», при любых зигзагах методологической моды, можно считать надежным исследовательским методом и основой регулирования «научного оборота» в гуманитарном знании.
В последние десятилетия прошлого века ведущей школой культурной антропологии стал постмодернизм, определивший «плотные описания», «чистые этнографические тексты» и их интерпретацию целью и смыслом научных исследований. Постмодернизм был реакцией на бесконечный поток концепций, в которых антропологи мыслили за народы и говорили от имени народов, настаивая при этом на объективности своего научного взгляда. К. Гирц, Дж. Маркус и их единомышленники предложили заместить позитивистскую претензию на объективность открытым представлением персонального «я», различая самосознание автора и раскрываемое «чистой этнографией» самосознание народа. Позднее постмодернисты подверглись колкой критике за чрезмерный самоанализ, иногда напоминающий «пупосозерцание». Однако постмодернизм помог этнографии по-новому обрести себя в старом качестве живописца культур, сместив акцент с наружной экзотики на их внутренний смысл.
Обнажение персонального «я» ученого очищает исследование от внешнего методологического кода, но не решает задачи персонификации исследуемого, в роли которого по-прежнему, даже у постмодернистов и герменевтиков, фигурируют некие массы (народы, сообщества, тексты). Мой опыт этнографических исследований показывает, что в каждой культуре индивидуальность проявляется многообразно в зависимости от мотивационно-деятельностного алгоритма конкретного человека и между торговцем, колдуном и крестьянином одного народа обнаруживаются существенные различия, раскрывающие не общий «тип народа», а персону в этнической (или межэтнической) среде. Обозрение культуры и наблюдение за политическими событиями с позиции конкретного человека открывает совершенно новые — собственно гуманитарные — возможности исследования, например, мотивационной динамики и проектной деятельности.
Разрабатывая антропологию движения [11] применительно к эпизодам средневековья, я столкнулся с непереводимостью в современные смыслы мотивов и ценностей «сребролюбиво-щедрого» викинга и «вольно-покорного» монгола. Погружение в тексты скандинавских саг и монгольских преданий помогло мне отыскать сколько-нибудь адекватные ракурсы и интерпретации, однако разрыв между позициями исследователя и исследуемого сохранялся. Тогда я решился на смену идентичности, как это понимали в режиссуре К. С. Станиславский (отыскать общие точки переживания), а в антропологии Б. К. Малиновский (влезть в шкуру туземца).
Среди викингов и монголов я нашел достаточно полно характеризуемые сагами и преданиями фигуры Харальда Сурового и хана Тоорила (с последним в «кастинге» упорно конкурировал Чжамуха), с позиций которых, как мне казалось, откроется горизонт событий эпох викингов и монголов. Затем по источникам, оставляя в стороне историографические оценки, я прописал «крупные планы» этих персонажей со всеми возможными их действиями. Получилось нечто среднее между портретом-биографией и деятельностной схемой. При этом персонаж не анализировался, а максимально детально характеризовался, благодаря чему складывалась матрица его мотивации-восприятия собственных действий и происходящих событий.
Крупный план, по закону кинематографа, позволяет в него «вселиться». Для удобства перехода я, по режиссерскому совету И. А. Головнёва, переписал «крупные планы» в глаголах настоящего времени. Так пишутся киносценарии: все, что снимается на пленку и показывается на экране, происходит «сейчас». Эффект настоящего времени облегчает вхождение в образ. Я выбрал Харальда и Тоорила «гидами» по их культурам-эпохам и обратился к этим эпохам не с исторического высока, а через киноантропологический крупный план. С этого момента и с этой позиции открылись и приобрели значение прежде малозаметные явления, например кеннинги в скандинавской поэзии и гора Бурхан-халдун в мировидении монголов. Надеюсь, не только мне, но и читателю моей книги «гиды» открывают неожиданные и содержательные ракурсы. Индивидуальные схемы мим-адаптации различаются, и, вероятно, у читателей складываются свои, отличные от моих, проекции средневековья, увиденного глазами Тоорила или Харальда. Тем не менее, сам по себе крупный план исторического персонажа, созданный на основе источников, представляется эффективным исследовательским инструментом — в какой-то мере машиной времени, только не скрежещущей механическими рычагами, а работающей внутри человеческой психики.
С приближением к современности источниковый фонд нарастает и открывает широкую панораму действующих лиц. Их обилие иногда создает иллюзию «смерти субъекта», его подчинения неким массовым законам развития. Тем более впечатляют индивидуально мотивированные действия людей, создавших образцы последующих социальных типов и моделей поведения. В позднем средневековье импульс раскатившейся по всей планете европейской колонизации во многом задали персонально мотивированные действия португальского принца Энрике (Генриха Мореплавателя) и московского князя Ивана III — столь же непохожих друг на друга, сколь и сходных в мотивах реконкисты. В дальнейшей судьбе колониальной гонки решающую роль сыграли удивительная статичность испанского монарха Филиппа II и поразительная подвижность английского пирата Фрэнсиса Дрейка.
Из крупных планов с проекцией на зарождение Британской империи Дрейк выигрывает даже на фоне королевы Елизаветы и графа Лестера. Выросший из юнги в адмирала, бывший одновременно корсаром и сэром, Дрейк прошел по всему социальному пространству английскости и открыл геополитическое пространство британскости. Он торговал неграми и жег испанские галеоны, а королева всходила на палубу его пиратского судна посвящать его в рыцарское звание. Он вырос на корабле, его достоянием и главным орудием всю жизнь был корабль. Нашлемное изображение на гербе Дрейка рисует земной шар, по которому идет парусное судно. Адмирал пиратов был погребен в свинцовом гробу на дне океана, а накануне, превозмогая болезнь, он облачился в доспехи, чтобы встретить смерть как подобает воину.
Легендарный корсар не очень хорошо писал и читал, но виртуозно владел кораблем и морем. Даже когда его пьянил восторг победы, он не мог выразить его иначе как словами морехода. Так, об отступлении испанской Армады он вспоминал: «Никогда ничто не нравилось мне так, как вид неприятеля, гонимого к северу южным ветром». Протестантская неприязнь к католикам сочеталась в нем с крайним суеверием и языческим культом моря. Совпадение фамилии Дрейк с именем владыки моря в англо-норманнской мифологии (англ. Drake, исп. El Draque, лат. Draco «дракон») не расходилось с самооценкой: на первом рыцарском гербе Дрейка был изображен крылатый дракон. Он бросил вызов самому могущественному монарху Европы того времени — Филиппу II, — и ему не раз удавалось, по его собственному выражению, «поджечь бороду испанского короля». Он при жизни стал национальным героем, и в его образе черпала энергию морская идентичность британцев, дополняемая и обновляемая именами Мартина Фробишера, Генри Гудзона, Уильяма Баффина, Джона Дэйвиса, Джеймса Кука. Затем, когда Британия стала организованной империей, и еще позднее, когда она пыталась смыть с себя клеймо империализма, Фрэнсис Дрейк был отодвинут в ряд романтичных персонажей полузабытой старины [12]. Однако в 1560–1590-е гг. именно от него исходила парадоксальная дерзость англичан, одолевших испанского Голиафа и двинувшихся на покорение океанов. Образ Дрейка освещает Англию иначе, чем лики Исаака Ньютона и группы «Битлз», однако без него и прежняя, и сегодняшняя английскость была бы другой.
На роль гида особенно подходит персонаж, обстоятельно характеризуемый источниками, но не относящийся к прославляемой в веках королевской или ханской династии, поскольку венценосный образ избыточно полон соответствующей мифологии. Если речь идет о миграции, революции, колонизации, то персонаж-гид должен принадлежать к элите, принимающей решения и влияющей на общий ход событий. Реконструкция образа средневекового землепашца, помимо того что затруднена недостатком адекватных свидетельств, открывает свое мотивационно-деятельностное пространство, соотносимое с домом, селом, лесом и рекой, с сельским храмом и погостом. Это персонификация, но иного деятельностного масштаба. В ней, судя по этнографическим аналогиям, преобладают экологические и социально-родственные мотивы (с соответствующей схемой контроля над пространством), тогда как в социально-иерархическом и политическом измерениях значимую роль для крестьянина играют мотивы соответствия и послушания. Впрочем в любом, самом рядовом, образе обнаруживается полный «спектр человечности», от эгоизма до деспотизма, только реализация этого спектра может распространяться не на империю, а на семью, круг единоверцев, пасеку с пчелами, интернет-сообщество и иные физические и виртуальные пространства.
***
Макроисторические построения, даже если они в чем-то верны, не вдохновляют человека на действие, поскольку описывают историю как реализацию какой-либо внечеловеческой — божественной, экологической, экономической, демографической, идеологической, математической — воли или закономерности. В этом смысле они не вполне гуманитарны, поскольку вольно или невольно ориентированы на внешние по отношению к человеку факторы. Персонологические построения, даже если они в чем-то неверны, гуманитарны по естеству своему, поскольку направлены на активацию мотивированной деятельности человека. Принятое в историографии соотношение макро–микро как общего–частного мне представляется игрой негуманитарной логики, поскольку в гуманитарном ракурсе главным и генерализующим измерением выступает именно человек. В гуманитарном смысле все выглядит наоборот: макро — это крупный план человека, а микро — общий, растворенный в массе. Когда гуманитарные науки пытаются подражать естественным и количественными исчислениями превращают человека в статистическую пыль, они теряют предмет своего исследования и собственную значимость.
Иногда мне говорят, что антропология движения — тоже макроисторический подход, поскольку охватывает все пространство истории и планеты. Это не совсем так. Она — «макро» именно в гуманитарном смысле, через крупный план человека, с последующей проекцией на мир. Она начинается с персональной мотивации и развивается в мотивационно-деятельностных диалогах. Разумеется, она невозможна без общих планов — больших пространств, обширных коммуникаций, — однако и в этих проекциях ее взглядом оказывается точка зрения конкретного человека.
Ссылки:
[1] Хайдер К. Этнографическое кино. М., 2000. С. 29. [2] См.: Эванс-Притчард Э. Теории примитивной религии. М., 2004. С. 36 (примеч. А. А. Казанкова). [3] Хайдер К. Указ. соч. С. 30. [4] Флаэрти Р. Статьи, свидетельства, сценарии. М., 1980. С. 44, 45, 154. [5] См.: Чахирьян Г. П. Изобразительный мир экрана. М., 1977. [6] Kracauer S. Theory of film: the redemption of physical reality. N.-Y., 1960. P. 46, 47. [7] Эйзенштейн С. М. Метод. Т. 1: Grundproblem. М., 2002. С. 37. [8] Там же. Т. 2: Тайны мастеров. М., 2002. С. 116. [9] Там же. С. 113. [10] Флаэрти Р. Указ. соч. С. 135, 136. [11] Головнёв А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург, 2009. [12] Отношение сегодняшних англичан к Фрэнсису Дрейку выразил Д. Уолтон в интервью, записанном Д. Н. Федоровой в ходе этнографической экспедиции в Англию летом 2010 г.: «Фрэнсис Дрейк? Конечно, он был когда-то одним из великих героев; он открывал новые земли в исторически важный момент, когда колонизовалась большая часть планеты. Он плавал вокруг света, что сделало его национальным героем. Он был и ключевой фигурой в разгроме испанской Армады, что добавило к его репутации звание великого британца. Он совершил кругосветное плавание на “Золотой Лани”, и памятник этому кораблю стоит поныне ниже станции “Лондонский мост”… Мой сын фотографировался у этого памятника и старался выглядеть крутым! Это помогает хранить живую память [о Дрейке]. Образованные люди еще помнят его имя, но он уже не обладает той вдохновляющей силой, какую имел в XIX в. Я бы сказал, что для большинства людей он — скорее реликвия прошлого, чем живая легенда…» (Материалы этнографической экспедиции ИИА УрО РАН; проект «Идентичность и мультикультурализм в условиях постимперскости (на материалах Великобритании)» по гранту РГНФ 10-01-00241а). |
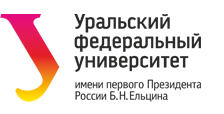 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |