Антропологических Фильмов кинофестиваль |
Дрейф этничности*
· Работа выполнена по проекту «Диалог культур и этничность в контексте колонизации»,в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» · Выходные данные стьатьи: Головнёв А. В. Дрейф этничности // Уральский исторический вестник №4 (25), 2009. С. 46 – 55.
Наука настороженно относится к этничности. Многие другие феномены (например, государственность, экономика, культура) обычно рассматриваются в развитии, тогда как этничность часто наделяется ореолом мистической древности в стиле креационистского толкования некогда сотворенного мира и однажды явленной истины. Эта религиозность или мифологичность взгляда на «народ» вызвала в последние десятилетия волну протестного ревизионизма, фокусирующегося на изменчивости или даже фиктивности этничности. Между теоретическими полюсами примордиализма и конструктивизма[1] разгорелся штормовой дискурс, создавший у его участников иллюзию этнологической революции, и многие бывшие «этнофилы» яростно обрушились на собственные убеждения с позиций «этнофобии». Наука пытается дать определение лону, ее породившему, и неизбежно сталкивается с обволакивающей неясностью. Атмосфера постмодерна уравнивает в правах умозаключения «этнос породил этнологию» и «этнология породила этнос». С годами ученым все труднее пробиться к собственно народу, поскольку, с одной стороны, в нем обнаруживается слишком много от науки (как в мифе от мифологии), с другой — путаной оказывается исходная позиция исследователя, пытающегося не то вжиться в народ, не то мыслить за него, не то конструировать его.
Современные концепции этничности варьируют в диапазоне от признания исконности «этноса» (примордиализм) до оценки наций как «воображаемых сообществ» (конструктивизм). Если в версии примордиализма «народ» считается объективной реальностью и задача науки состоит в воссоздании его истории и праистории, то конструктивизм представляет нацию как воплощенный миф и задачу науки видит в выявлении акторов и технологий этого воплощения. Конструктивизм открывает деятельностный горизонт этничности, в котором народ предстает не статичной данностью, а живым явлением, творимым, используемым и преобразуемым реальными людьми, а отстаиваемая примордиалистами исконность народа оттеняет его устойчивость во времени. По существу примордиализм и конструктивизм — взаимодополняющие измерения, одно из которых показывает стойкость этничности в череде поколений, другое — механизм ее действия.
Антропология движения предлагает концепт дрейфа этничности [2], в котором изменчивость народов, культур и персональной идентичности представляется обыденностью, а не отклонением, в котором смена традиций рассматривается как своего рода традиция. В этом измерении понятие «этничность» не только удобнее «этноса», но и отлично от него, поскольку обозначает сущность динамичного явления, а не его статичный образ. «Этносы» могут появляться и исчезать по воле правителей или ученых,тогда как «этничность» остается естественным и устойчивым свойством человека. Каждая этноистория — бесконечная череда перерождений, каждое поколение заново воссоздает свою этничность, и всякий раз в чем-то по-новому. Поскольку поколения рождаются не сплоченными шеренгами, а плавным потоком, сдвиги этничности не всегда заметны современникам. Жизнестойкость общности далеко не всегда выражается в фиксируемых характеристиках (переписях, административных границах), а отмечаемые летописцами и историками благополучные состояния народов вовсе не обязательно совпадают с реальными пиками этничности. Ее взлет часто зарождается в политической смуте, а спад приходится на фазу социального благоденствия. Дрейф этничности напоминает скорее цепь ситуативных реакций, чем линейную эволюцию. Этничность сродни иммунной системе, которая активируется при кризисах и вирусах, а в здоровом теле неприметна, будто дремлет.
Пространственность
Чем глубже в праисторию погружается взгляд исследователя, тем туманнее выглядят общности, растворяясь в условностях археологических культур. Это создает иллюзию аморфности древних этнических форм и побуждает конструктивистов заявлять о недавнем рождении наций, а примордиалистов искать момент в этноистории, когда бесформенная масса людей сложилась, наконец, в осознавший себя народ. Подобные установки, включая предположения о де-этничности, до-этничности или этническом промискуитете древних обществ, порождены проблемами не народов, а их исследователей. Этнографические реалии во всех случаях выявляют внятную идентичность людей традиционных обществ, заметно превосходящую по своей ритуально-символической насыщенности самоопределения современных горожан. «Безродность» в прошлом, судя по всему, была социально-психологической патологией, и идентичность в древности служила практическим инструментом, особенно в условиях частых войн. Не исключено, что пранароды обладали яркой самобытностью и отличались друг от друга явственнее, чем сегодняшние сообщества, опутанные паутинами мировых религий, глобальными финансовыми, политическими и информационными сетями.
Триадой ключевых мотивов-практик «праэтничности», как мне представляется, были родство, секс и власть, сплетавшие ту самую социальную материю, из которой рождались древние народы. Речь идет о родстве как экзистенциальной философии близости и механизме создания «родины», о сексе как мотиве и социальной практике внутригрупповой и межгрупповой коммуникации, о власти как технологии иерархического соподчинения людей и контроле элиты над социальным пространством. Судя по территориальному размаху культур палеолита, древние люди не только объединялись в мелкие промысловые группы, но и поддерживали обширные межгрупповые связи, главную роль в которых играла мобильная элита. Миграции каменного века, как и более поздних эпох, представляли собой не только сезонные охотничьи рейды, но и магистральные контакты, благодаря которым человечество освоило отдаленные края планеты, сохранив при этом видовое единство [3].
Возможно, уже в палеолите существовали крупные сообщества, управляемые «пастырями» и структурируемые взаимодействием локальных и магистральных культур. Если локальная культура замкнута в природной нише, то магистральная охватывает ряд локальных ниш, связывая их в большие сообщества. Соответственно, локальная культура «возделывает» конкретную эконишу, магистральная — организует локальные группы в сложные сообщества, часто приобретающие облик государств. С древности большие пространства осваивали и контролировали наиболее мобильные группы, обретавшие статус элиты; и позднее элита выделялась подвижностью на фоне зависимых сословий (нередко принудительно прикрепленных к земле). В истории Старого Света магистральные культуры воинственных кочевников моря и степи создали геополитическую конфигурацию, лежащую в основе сегодняшней культурной мозаики Евразии.
Праистория крупных сообществ, например алтайской, индоевропейской и уральской языковых семей, представляется не постепенным и равномерным распадом на дочерние языки, как нередко предполагается (в том числе в концепции глоттохронологии), а ритмом схождений и расхождений. Этот ритм определялся пиками динамики и статики: магистральное движение вызывало интеграцию, локальное оседание — ветвление языков. Широта и долговременность распространения сходных вкусов и технологий граветта и мадлена рисуют картину бойкого общения. Мобильные и доминантные охотники на зверей и женщин торили и контролировали дальние пути. Поддерживаемая ими коммуникация создавала в мозаике многоязычия эффект двуязычия, когда в каждом отдельном месте люди общались на двух языках — локальном и магистральном.
Как многоязычие с ситуативным двуязычием было пространством языковой истории, так уклад межгрупповой иерархии — своего рода этноценоз — был средой развития идентичностей. Не только упрощением, но и системной ошибкой представляется популярное сведение этнопроцесса к дихотомии мы–они (свои–чужие), берущей начало в противопоставлении У. Самнером we-group/out-group и выдвижении этноцентризма как ключевого фактора обособления folkway — «пути народа» [4]. В действительности группа «мы» не всегда враждебна и противоположна группе «они», в их диалоге замысловато переплетаются своя и чужая истинность с инакостью разных соседей, создавая не жесткую полярность, а поле многообразного взаимодействия. Даже война имела целью утверждение этноиерархии, подчинение, а не уничтожение врага; не случайно послевоенный мир, часто скрепленный обменом женщинами, был по существу ареной экспансии родства. Более того, носители магистральных культур во все времена отличались не только воинственностью и предприимчивостью, но и искусной этнодипломатией.
В древности дрейф этничности во многом предопределялся взаимодействием магистральных и локальных культур. В локусах генерировалась стойкая «почвенная» этничность, на магистралях — мобильная «синтетическая» (в каком-то смысле именно эти разные качества этничности породили примордиалистский и конструктивистский варианты ее толкования). Локальная микроэтничность и магистральная макроэтничность различаются не только территориальным размахом, но и мотивами и практиками генерирования. Микроэтничность основана на родстве (в значении философии и технологии близости, а не факта крови), распространяемом на обитаемое пространство в понятиях «родная земля», «родина». Макроэтничность строится на власти в ее функциях подчинения, интеграции, посредничества и выражается понятиями «народ», «семья народов». При статусном превосходстве магистральной культуры локальная обладала преимуществом устойчивости и живучести благодаря непосредственной связи с землей и ее ресурсами. Магистральная культура могла оказаться эфемерной, «сойти с орбиты» в противоборстве с другой культурой, не выдержать напряжения движения и осесть в удобной локальной нише.
По роду деятельности агент магистральности (политик, торговец, воин) — этнодипломат, интегрирующий различные сообщества, партнерские связи, ценности. Его собственные ценности состоят во власти над чужими ценностями и контроле над обширным социальным пространством. По мотивации и деятельности земледелец привязан к «почве» и родственно-соседской среде, торговец и политик — к «пути» и разноликому кругу партнеров. Первый «натурален» в своих потребностях, второй — постоянно «конвертируем». Различные деятельностные схемы создают, соответственно, статичную и динамичную этничность. Классический пример статичной идентичности представляет крестьянство с его плотной экокультурой, динамичной — нобилитет с многообразной социокультурой. В тех случаях, когда локальная и магистральная культуры иерархически соподчинены (большинство так называемых рабовладельческих и феодальных обществ, полиэтничных империй), они выглядят двумя культурами в одном народе, различающимися даже по языку. «Верхняя» и «нижняя» культуры представлены, например, франками и галлами во Франкском королевстве, русью и славянами — на Руси.
Магистральность ярко олицетворена финикийцами и викингами. Те и другие — «граждане моря», имевшие локальные этнические корни (соответственно, семитские и германские), но охватившие своими торговыми и военными путями огромные полиэтничные пространства. Финикийцы в конце II тыс. до н. э. сплели сеть международной торговли между Египтом, Критом, Микенами, Хеттским и другими царствами Средиземноморья. Феномен морского народа-торговца эпохи бронзы — порождение динамичного круговорота, в котором предложение и спрос переплелись с религиозными и властными амбициями, конкуренцией вкусов и предпочтений. Схема «золотого тельца», возникшая из смеси властолюбия, богостроительства, мистики и алчности, инструментально разрабатывалась финикийскими мореходами. Финикийцам удалось синтезировать различные мотивы и ценности, создав эквиваленты обмена и научившись этим обменом управлять. В их руках золото, священное для египтян и престижное для греков, стало мерилом и инструментом власти. Их называют первыми «мировыми капиталистами», около тысячелетия державшими в руках средиземноморскую торговлю, на века задавшими тон и ритм товарообмену и обороту капитала. Регулируя и синтезируя ценности, они стали жрецами-менеджерами богатства. Не случайно язык финикийцев превратился в средство международной коммуникации — греки и другие соседи по Средиземноморью заимствовали финикийское алфавитное письмо.
Викинги в конце I тыс. н. э. создали сеть колоний и коммуникаций, охвативших Европу с севера. Норманнский «круг земной» представлял собой паутину морских и речных путей, власть над которыми была ключом к господству над сушей (схема «морского конунга»). Магистральная культура викингов сочетала войну и дипломатию, торговлю и колонизацию, морские и аграрные отрасли хозяйства, мифологию и обрядность. Все созданные викингами государства и сообщества выросли на устойчивых водных путях, например, исходящий от Дании на север Norvegr (Северный путь) стал страной Норвегией. Другие «веги» — Austrvegr (Восточный путь), Westvegr (Западный путь) — были аренами военно-колонизационного промысла, где рождались новые «синтетические народы» — нормандцы, русь, колбяги. Викинг — идентичность, сложившаяся в северогерманской скандинавской среде, но вышедшая за ее этнические пределы. Викингами были не только датчане, норвежцы и шведы, но и выходцы из славян-вендов, балтов, финнов.
Обе культуры, финикийцев и викингов, характеризовались высокой мобильностью, пространственным размахом и многообразной этнодипломатией. За время расцвета и господства они оплодотворили своими достижениями и технологиями локальные культуры, входившие в орбиту их движения. Названия «финикиец» и «викинг», как будто, ушли в историю, но наследие людей моря широко растеклось по культурам Евразии (тот же эффект характерен для степных кочевников и других «архитекторов больших пространств»). В свою очередь локальные культуры генерировали собственный потенциал, питали им магистрали, по-своему переваривали магистральные заимствования. Взаимодействие магистральных и локальных культур было не только макромеханизмом общего развития, но и главным фактором преобразования этничности.
Изменчивость
На Восточном пути викингов ключевым было взаимодействие магистральной военноторговой руси и локальных групп северных славян (словен и кривичей). Путь из варяг в греки прокладывался двумя культурами, будто двумя ногами: норманны пробивали его войной, славяне — осваивали трудом, норманны умели побеждать, славяне — выживать. Походы норманнов на северо-востоке Европы без участия славян не породили бы колоний. В симбиозе викингов и славян родилась русская (норд-русская) культура и идентичность «русь», носителями которой стали «местные варяги» — русо-славянские полукровки. Один из них, князь Владимир (конунг Вальдамар), сын викинга Святослава и славянки Малуши, сыграл особенно заметную роль в преобразовании долговременного союза в общую идентичность. Если прежде, в VIII–X вв. (со времени основания норманнской колонии на Ладоге), русь и славяне были разными народами и состояли в сложных контактно-конфликтных отношениях [5], то к концу Хв. они образовали, соответственно, знать и люд единого сообщества. Знаками единения стали воспетые в фольклоре «народные пиры» при Владимире Красно Солнышко, возвышение его славянского дяди Добрыни до статуса воеводы (взамен варягов вроде Асмуда и Свенельда), «домашний стиль» княжения Владимира в отличие от викингской подвижности его отца. С «народным князем» Владимиром в русской былинной традиции, помимо Добрыни Никитича, связаны герои «с печи» (Илья Муромец) и «от сохи» (Микула Селянинович).
Венцом «этнической революции» стало религиестротельство — языческая реформа, а затем крещение руси и славян. Владимир искал надэтничную идеологему, которая позволила бы ему подняться над обеими культурами, стать не полукнязем-получелядином, а правителем варягов и славян. Как ни парадоксально, принятие «имперской» религии могло быть подсказано не с юга, откуда шло собственно христианство, а с севера, где в то время установилась «королевская мода» на крещение: за несколько лет до Владимира от немцев принял христианство датский конунг Харальд Синезубый, в то же время в Англии крестился норвежский конунг Олав Трюггвасон, к христианству склонялся и шведский конунг Эйрик Победоносный. Для Руси христианство стало надэтничной идеологией, соподчинившей скандинавские и славянские традиции и позволившей Владимиру посредством новой идентичности на персональном и политическом уровне преодолеть конфликтную русо-славянскую двойственность. Православие потому столь прочно ассоциируется с исконной русской культурой, что оно стало объединяющей идеологией общности, которая родилась при Владимире Крестителе из смеси руси и славян.
Судя по летописям, при князьях-викингах, с Рюрика до Святослава в 862–972 гг., пространство «руси» быстро расширялось от северорусских приладожских владений летописных братьев-варягов (область Киева в ту пору называлась Польскою землею) до Балто-Понтийского междуморья (при Олеге), включая Подунавье (при Святославе). При «домашних князьях» Владимире и Ярославе в 972–1054 гг. подвижная русь-рать осела в государстве Русь, скрепленном магистральной религией. Эпизоды крещения («Путята крестил мечом, а Добрыня огнем») и языческие бунты в Суздальской и Ростовской землях показывают, что прежняя дихотомия «русь-славяне» затмилась противостоянием христиан и язычников, и торжество христианства означало становление новой этноконфессиональной идентичности.
На Руси сменился вектор движения — оно пошло в противоположную сторону. Если генератором русской идентичности был Север (Ладога и Новгород), то очагом христианской — Юг (Киев). Момент социокультурного триумфа «Киевской Руси» Ярослава Мудрого принято связывать с централизующим воздействием христианства. На самом деле это единство было создано трехвековым движением руси и северных славян по балто-понто-каспийским магистралям. Когда единение в северном пути сменилось единением в южном боге, Русь начала распадаться. Княжества, охваченные киевским влиянием, стремительно мельчали; например, Владимиро-Суздальская земля после смерти Всеволода Большое Гнездо разделилась на 5, при его внуках — на 12, при праправнуках — на 100 удельных княжеств. Так называемая феодальная раздробленность, приписываемая не то дурному нраву знати, не то неким всемирно-историческим законам,в действительности была следствием упадка магистральной культуры. «Варяжский путь» замер, и динамичная прежде Русь распалась на статичные локальные княжества. «Христианскому пути» явно недоставало ресурса магистральности для поддержания былой общности, и русская этничность, потесненная христианской идентичностью, начала дробиться на «уделы».
Единственным очагом, генерировавшим старорусскую магистральность, оставался Новгород, который не только сохранил прежние земли, но и расширил свои пределы за счет военно-торговой колонизации: к XIII в. новгородские владения простирались от Ботнии на западе до Урала на востоке и от Арктики на севере до Верхней Волги на юге. До появления монголов на Руси только новгородская (норд-русская) культура, прямая наследница варяго-русской традиции, обладала высоким пространственным потенциалом, вобрав в себя скандинавскую магистральность и славянскую локальность. При этом к XII в. норд-русская магистраль сдвинулась на север, в Рюриковские пределы, и развернулась в широтном направлении от Скандинавии до Сибири. Обособление от Юга выразилось в ограничении влияния князей (регламентации их «служебного» статуса и лишении права землевладения), особенных социальных практиках (всевластии веча, культе богатства и торговли, военно-разбойном стиле ушкуйников), самобытности фольклорных героев (купца-путешественника Садко, буяна-бойца Василия Буслаева, охотника на женщин Хотена Блудовича). Особость новгородцев читается и в оттеняющей их идентичность летописной риторике — «людье Новгородцы от рода варяжьска, преже бо беша словени», «Господин Великий Новгород».
Позднее русская этничность пребывала в состоянии непрерывных преобразований под воздействием внешних толчков и внутренних сдвигов — дрейф этничности нередко менял направление, а иногда превращался в хаос. В XIII в. Нижняя Русь (область рек южного стока, некогда принадлежавшая хазарам) была подчинена мощной монгольской магистральности и стала частью Орды, тогда как Верхняя Русь (область рек северного стока, некогда принадлежавшая варягам), оставалась независимой Новгородской республикой; в одной части Руси локальные идентичности сочетались со званием «ханские люди», в другой усилилась норд-русская «новгородская» самостийность. В XIV в. на стыке монгольской (ордынской) и нижнерусской культур сформировалась ордрусская или московская (по названию ее форпоста) культура, основанная на централизме власти и унаследовавшая от Орды методы управления (русский лексикон пополнился монголо-тюркскими понятиями «деньги», «казна», «таможня», «ярлык», «ясак»). В XV в. Москва подавила очаг норд-русской культуры, разгромив Новгород и подчинив его владения, при этом московская элита существенно пополнилась татарской знатью и приняла идеологему «византизма» (позднее «Третьего Рима»). В XVI в. Москва, превзойдя по военно-политическому потенциалу рассыпавшуюся на части Орду, подчинила соседние татарские ханства, а московиты и потомки ордынцев образовали столь плотный симбиоз, что вполне органичным было «соправление» в 1575–1576 гг. Ивана IV и касимовского хана Симеона Бекбулатовича, как и царствование в конце столетия выходца из обрусевшего татарского рода Бориса Годунова; беглецы от московского режима влились на постордынском пространстве в казачью вольницу, на постновгородском — в поморскую.
XVII в. открылся крахом Московии, лишившейся династии Рюриковичей и прежней идентичности: состояние, обозначаемое мягким словом «смута», не случайно стало раздольем для самозванцев — лже-цари олицетворяли лже-идентичность, разрывавшуюся между московским православием и польским католичеством, призраком Грозного царя и кличем вольных атаманов, ставкой на шведскую силу и народное ополчение. Политический кризис вызвал мобилизацию русской этничности, причем прежде всего на Севере, среди новгородцев, «вологодских и поморских мужиков». Вновь, как полтысячелетия назад, на полях сражений витал норд-русский «варяжский дух» — решающие поражения войскам Лжедимитрия в 1608–1610 гг. наносили русско-шведские отряды Скопина-Шуйского и Делагарди, словно по сценарию XI в. на шаткую столицу шла с севера новгородско-скандинавская рать [6]. Эхом северного движения был успешный рейд нижегородского ополчения в 1612 г. и реставрация русской монархии. Между тем окраинная вольница в лице поморов и казаков за поразительно короткий срок — полвека — пронеслась, будто скрываясь от московских воевод, по всей Сибири до Амура и Чукотки. Сдвоенная магистральность русской культуры, вобравшей в себя традиции нордизма и ордизма, а также славянскую локальную адаптивность, стала двигателем эпохальной экспансии, приведшей к образованию евразийской России. Наконец, вторая половина XVII в. была ознаменована расколом русско-христианской идентичности на исполненные взаимных проклятий старую и новую веры.
XVIII в. опрокинул прежнюю русскость петровской европеизацией с ее обрезанием бород, низложением патриархии, переносом столицы, нашествием в язык «вокабул», «реляций», «канцелярий», «коллегий», «ассамблей». Обновленная петербургская элита заговорила не по-русски, обучилась европейским наукам и искусствам. По оценке Н. С. Трубецкого, «старая великорусская, московская культура при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры»; «заимствуя западную технику для укрепления внешней мощи России, Петр I в то же время наносил русскому национальному чувству самые тяжелые оскорбления и разрушал все те устои, на которых покоилась внутренняя мощь России» [7]. Реакцию на «немецкое иго» и избавление от него благодаря восшествию на престол Елизаветы выразил М. В. Ломоносов в оде 1747 г.: «Я россов счастьем услаждаюсь, / Я их спокойством не меняюсь / На целый запад и восток». В очередной раз «русский ответ» последовал с Севера, правда академик-помор в пылу полемики с историками-немцами (прежде всего Г. Ф. Миллером) ополчился на «норманизм» во имя «славянизма», заложив болезненный парадокс в идеологему русскости [8]. Еще одним парадоксом столетия был подъем «патриотизма» под скипетром нескладно говорившей по-русски этнической немки Екатерины II.
XIX в., принесший России победу в «отечественной войне» с Наполеоном, «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, блестящую плеяду русских поэтов и музыкантов, споры славянофилов и западников, был столетием русско-российского нациестроительства с его уваровской триадой «православие, самодержавие, народность» и сочиненным при Николае I гимном «Боже, царя храни». Влияние бурлящей национализмами Европы, раскрепощение крестьян (согласно славянофилам, главных носителей «народности»), земская реформа, этнические волнения на Кавказе, в Польше и Прибалтике пробудили «гражданское общество» при Александре II. Выстрел Каракозова 1866 г. по-новому поставил вопрос о русскости, когда император спросил подведенного к нему жандармами террориста: «Ты поляк?» и услышал в ответ: «Нет, чистый русский». Свою версию ответа предложил Александр III, прослушавший курс русской истории от С. М. Соловьева, утверждением «Манифеста о незыблемости самодержавия» (1881 г.) и вознесением до небывалого уровня статуса русскости. Известны афоризмы царя, носившего в быту русскую рубаху: «Самодержавие создало историческую индивидуальность России», «Россия — для русских и по-русски». Сюжеты русской/российской самобытности наполнили гуманитарную науку (Н. Данилевский, К. Леонтьев), литературу (Ф. Достоевский, Л. Толстой), живопись (И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов), музыку (М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин). Однако наряду с русским в империи росли иные национализмы, и даже Сибирь породила свое «областничество».
ХХ в. стал свидетелем, по меньшей мере, двух кардинальных сдвигов русскости. В начале столетия «интернационал» империи (включавший евреев, грузин, поляков, латышей и других «инородцев» и «иноверцев») выступил главной силой революции, снесшей «незыблемое самодержавие» и русскую элиту. На месте «православия, самодержавия и народности» оказались атеизм, большевизм и интернационализм. Впрочем, с течением времени русскость упрямо прорастала, особенно в кризисе II Мировой войны, окончание которой ознаменовалось реставрацией патриархии, российских символов (например, воинских званий, знаков отличия и наград), сталинским тезисом об особых военных заслугах русского народа и выдвижением его на роль «старшего брата» в Союзе. Советское нациестроительство продолжалось до конца 1980-х гг., и последняя союзная конституция декларировала создание новой исторической общности «советский народ». Второй кризис идентичности случился при крушении СССР и КПСС, когда недавно конституированная советскость взорвалась фейерверком национализмов. Политическое возвращение России дало толчок очередным поискам русскости, растекшимся на множество направлений, в той или иной мере соотносимых с траекторией многовекового дрейфа русской этничности, включая монархизм, православие, неоязычество, большевизм, евразийство, славянофильство, западничество, почвенничество, региональные/сословные/конфессиональные версии идентичности (казаки, дворяне, староверы, поморы, уральцы, сибиряки и т. д.).
Предложенный эскиз дрейфа русской этничности, отмечающий около двадцати существенных сдвигов за тысячелетие, может показаться чересчур громоздким для любителей простых решений, вроде «русский — православный» или «русский — широкая душа». Однако сложность, отражающая исторические реалии, передает содержательное богатство и многообразие этничности, а в случае русскости — высокую адаптивность как ключевое качество народа. Подобно русскости, каждая этничность пребывает в постоянном дрейфе. Немцы за два последних века успели, по меньшей мере, четырежды сменить имидж, побывав при Бетховене романтиками, при Бисмарке — педантами, при Гитлере — фанатиками, при Железном занавесе — двумя идеологически враждебными друг другу «народами».
У стремительных кочевников сдвиги выглядят еще радикальнее: политии аваров, тюркютов, уйгуров, кимаков, кипчаков, кыргызов, каракиданей рождались в разных ареалах Великой степи, на пике экспансии охватывали огромные пространства Евразии, рассыпались на части и сменялись новыми ордами. При этом исчезающая этничность благополучно возрождалась под новым названием (именем нового вождя). Судьбы кочевников в циклах миграций-оседаний, мирного пастушества и имперских войн выглядят зигзагами, как и истории их этнонимов. Например, название «татары» совершило замысловатый путь, основные вехи которого обозначаются так: в XII в. татары — одно из могущественных племен Халхи; в 1162 г. Есугей-баатур нарекает сына именем пленного татарина Темучжина; татары мстят Есугею, отравив его ядом; носитель татарского имени Темучжин мстит татарам за отца и борется с ними за власть в степи; Темучжин (Чингис-хан) устраивает массовую резню татар; в XIII в. слово «татарин» становится нарицательным в значении «противник» — так монголы называют покоряемые племена; используя «татар» в качестве живого щита, монголы выставляют их в авангард завоеваний; «татары» стяжают славу ударных ханских войск; завоевания придают орде смешанный облик «татаро-монголов» или «монголо-татар»; с распадом Орды в XIV–XV вв. «татарами» называется целая цепь сообществ бывшего «Великого монгольского улуса» от Алтая до Крыма; в Российской империи ядром татарского мира становится общность казанских татар, ныне Татарстан.
Эффект пространственного дрейфа этничности кочевников и их оседлых потомков отмечается до сих пор. Например, теоретик «арабизма» М. Дж. Аль-Ансари объяснял размытость «арабского отечества» (аль-ватан аль-арабий), простирающегося от Атлантики до Персидского залива (равно как и включение в него в разное время территорий Курдистана, Судана, Алжира, Сомали, Мавритании и Джибути) тем, что оно «бесконечно текуче, оно — движение». Комментаторы-конструктивисты по этому поводу скептически замечают, что «зыбкость отечества» следует объяснять тем, что оно — постоянно «изобретаемое» пространство [9]. В действительности движение и изобретаемость не противоречат друг другу — в кочевую эпоху опи были технологиями экспансии арабов и по сей день остаются чертами посткочевой арабской ментальности.
Ситуативность
Известно, что этничность сочетает в себе персональность и социальность или, пользуясь категориями Э. Дюркгейма и М. Мосса, коллективное и индивидуальное сознание. В ней частное соотносится с общим, и человек обладает этничностью в широком спектре возможностей — от подчинения до распоряжения. Вечный вопрос, кто кому принадлежит, человек народу или народ человеку, в этничности решается взаимоподчинением и взаимообладанием. Человек представляет свой народ не как демографическую величину. Восприятие народа складывается из ассоциаций, выражений лиц и тембров голосов, оно не количественно и рационально, а индивидуализировано и чувственно. При слове «народ» (если отрешиться от экспертного взгляда статистика или политика) возникает ощущение не «социального организма», а самого себя в окружении избранных лиц — своего рода этнического пантеона, состоящего из родни и знакомых, живых и мертвых героев. Этничность работает как механизм персонификации общности, как внутренний диалог личного и общественного. В ней реализуется базовая потребность в «очеловечении» общества, в присвоении его человеком.
Однако народ — не абстракция, он говорит голосом лидера или голосом толпы. Этими же голосами он может разговаривать с другими народами. Этничность предстает непрерывным диалогом, сопровождающимся действиями, маневрами, настроениями. Именно в облике народа общность людей персонифицировано себя осознает и даже проявляет эмоции — гнев, каприз, смирение. Чаще всего взрывы этничности связаны с провалами или раздорами элит. Достаточно напомнить, насколько существенна роль персон в современных грузино-российском и российско-украинском конфликтах.
Человек в течение жизни этнически взрослеет. Это напоминает отношение к религии, когда люди, в молодости равнодушные к богу, на склоне лет окунаются в веру. Среди моих знакомых есть эскимоска, которая в юности была «девушкой дискотек», а с годами превратилась в хранительницу этнических традиций, татарин, который в сорок лет решил «стать татарином» и выучить родительский язык. Подобное «второе рождение» часто оказывается не просто итогом накопления знаний, а следствием жизненных драм, в которых люди ищут опоры в этничности. Особенно значимы переживания смерти, и тот, кто в жизни пренебрегал ритуалами, умереть стремится «по обряду», будто в ином мире спрос на традиции выше.
Играет свою роль и «накопление этничности», поскольку человек тестирует свою культуру как инструмент мотива-действия и собирает эти тесты в персональный «этнический опыт». Каждое мгновение этничность претерпевает подвижки — на уроке истории, в религиозной церемонии, в межнациональном браке, в выборе карьеры, в переписи населения, в восприятии телевизионных новостей. Поток событий обновляет этничность, которая не существует вне движения в его различных измерениях — череде поколений, отношениях полов, принятии решений, контактах и конфликтах. Ее проявления многообразны в меняющихся ситуациях и репертуарах разных людей. Например, уральский татарин, работая на свиноферме, отключает этничность, приходя в мечеть — включает ее. Юная полубашкирка-полутатарка надевает на обручение (никах) татарский наряд, а на свадьбу — белое подвенечное платье. Молодой уралец, по его признанию, впервые ощутил себя русским, когда был избит азербайджанцами, и с тех пор его русскость с готовностью активируется при слове «Кавказ».
Дрейф этничности может привести к ее смене, раздвоению и даже мультипликации. Одним из главных механизмов этого перехода служит межэтнический брак, создающий идентичность по мужу (реже по жене), равно как и альтернативу этничности у детей. Этот механизм работал во все времена, захватывая все слои общества от императоров до крестьян. Например, эффективной оказалась русская идентичность по мужу (в еще большей степени по фаворитам) у императрицы Екатерины II. В одной из уральских деревень живет женщина с двумя именами — Августа и Газима-апа. Приехав в 20 лет по окончании медучилища в татарский аул, русская девушка Августа в 1945 г. влюбилась в вернувшегося с войны лихого гармониста и стала его женой. «Я как вышла замуж, меня перекрестили быстро, я в татарскую веру перешла; до этого была крещеной». И сейчас, по ее словам, она «к татарам ближе, русскую веру уж забыла совсем». Среди русских она русская, среди татар — татарка; к старости на татарском стала лучше говорить, чем на русском, дети у нее — татары. В другой деревне живет татарка Арина, ставшая русской Ириной. Уехав в молодости на Север, она вышла замуж за русского и «среди русских — русской была, среди татар — татаркой». Мать отреклась от нее и даже запретила приезжать к себе на похороны. На Севере Арина-Ирина по-русски наряжала новогоднюю елку, по-советски праздновала Первомай, а иногда в одиночку справляла Уразу. Только скажет мужу: «Вовка, у меня сегодня праздник Ураза — буду справлять». Он говорит: «Ну, справляй». После смерти мужа ей пришлось 15 лет прожить в Хакасии, где «люди красивые» и где она освоила хакасский язык и почувствовала себя хакаской. Дети и внуки у нее — русские [10].
Мультиидентичность — вовсе не экзотика, особенно среди элиты или в современной городской среде. По наблюдениям Э. Смита, «в обычных условиях большинство людей чувствует себя благополучно, обладая многими идентичностями и передвигаясь между ними в зависимости от ситуации. Иногда, правда, та или иная идентичность подавляется внешними обстоятельствами или конфликтует с какой-либо другой персональной или семейной идентичностью». Индивидуальная идентичность ситуативна и альтернативна: «тот, кто выезжает за границу, определяет себя (и определяется другими) иначе, чем он это делает дома» [11].
Этнические лидеры находятся на перекрестке межэлитного диалога и интересов своего народа. Этот перекресток мотиваций создает клубки противоречий, которые невозможно распутать или разрубить раз и навсегда. Они вновь сплетаются потому, что разные сообщества издавна говорят на разных языках и молятся разным богам (или по-разному молятся одному богу); и эти различия не стираются, а, напротив, постоянно генерируются и усложняются. Лидеры отстаивают и согласовывают разные по природе приоритеты, благодаря чему возникает многослойный фонд разнородных ценностей, активация или деактивация которых политична и конъюнктурна. Если в одном случае в позиции лидера виден крен к имперским или федеральным ценностным установкам, а в другом к этническим или региональным, это не значит, что он занимает «шаткую позицию». По роду деятельности политик маневрирует между различными приоритетами. Если земледелец или рыболов в своей локальности может позволить себе выбор одной устойчивой идентичности, то политик на перекрестке социальных магистралей обречен на маневр между различными «правдами», в том числе этническими и политическими.
Подавленная идентичность может стать негативной. Например, накануне и после краха СССР на месте советской идентичности возникла антисоветская, а у русских, благодаря образовавшейся спайке русскости и советскости, это вызвало очередной кризис этничности. В. А. Тишков отмечает, насколько нелепо и необоснованно выглядят постсоветские самоуничижения вроде размноженных масс-медиа пассажей о «родине-уродине», «мерзостях российской жизни», «океане бедности», «национальной катастрофе России» [12]. В проекции негативной идентичности подобные проявления по-своему закономерны, хотя и преодолимы за счет механизмов дрейфа этничности/ идентичности.
В негативных фазах сложность дрейфа ассоциированных идентичностей особенно заметна. По моим наблюдениям, сегодняшний уральский крестьянин еще не расстался с «совхозностью» [13], и распространенное ныне «финансовое огораживание» — скупка и распродажа банками акционированной собственности бывших совхозов — вызывает в селе массовую депрессию. Представляя в качестве антигероев российского банкира и местных чиновников, крестьянин отторгает связанную с ними идентичность, выражая негативизм в грезах возмездия («никому не нужно сельское хозяйство… хоть бы какая-нибудь случилась эпидемия — границы бы закрыли — тогда бы через неделю или через месяц хватились — жрать-то надо») или реставрации порядка («а наши все ждут, что Советская власть вернется, даст денег, напоит, накормит»).
Дрейф этничности в пиковых ситуациях может выразиться в национализме и фашизме, что всегда связано с мотивами-действиями интеллектуальной и политической элиты. В разных обстоятельствах этничность предстает то ангелом-хранителем, то демоном-губителем.
Это вызывает, особенно у чиновников, своего рода этнобоязнь, стремление ее отменить, подавить или утаить. Однако мировой и российский опыт убеждает, что актуальность «этнического фактора» не снижается, а лишь варьирует (или лавирует) сообразно политической обстановке. Оттого, что этничность изменчива и адаптивна, она не становится менее живучей и значимой. Полиэтничность больших стран, в том числе России, с одной стороны, рождает конфликты и (в кризисах) угрозу государственной целостности, с другой — содержит перспективу креативного резонанса этнических ресурсов.
В 1797 г. академик Г. Шторх восторгался этнографическим многообразием России, отмечая, что «никакое другое государство на земле не имеет такого разнородного населения» [14]. Многие современные эксперты считают избранный Россией путь полиэтничной федерации фатальным. Он амбициозен и сложен, но обладает мощным, толком пока не реализованным потенциалом (свои рискованные эксперименты мультикультурализма небезуспешно проводят США и ЕС). Осознание механизмов этничности и сценариев ее дрейфа полезно для избавления от «этностраха», предупреждения негативной идентичности, оптимизации и развития ресурсов многокультурности.
Ссылки: [1] См.: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983; Gellner E. Nation and Nationalism. L., 1983; Hobsbawm E. J. Nations and Nationalism since 1780. Cambridge, 1990; Smith A. D. Myths and Memories of the Nation. Oxford, 1999; Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003; Brubaker R. Ethnicity without Groups. Cambridge (Mass.), 2004. [2] См.: Головнёв А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург, 2009. С. 118, 119; о дрейфе идентичности см.: Тишков В. А. Указ. соч. С. 120–123. [3] Подробнее см.: Головнёв А. В. Указ. соч. С. 122–134. [4] Sumner W. G. Folkways. Edinburgh, 1906. [5] Судя по своду арабских источников, славяне и русы представляли локальную и магистральную мотивационно-деятельностные схемы: славяне осваивали ресурсы природы, русы — ресурсы славян. Славяне возделывали землю, разводили свиней и пчел, собирали мед, русы грабили славян и продавали их в рабство; славяне скрывались от врага, русы атаковали и всеми средствами одолевали противника; славяне отличались честностью и послушанием, русы своенравием и вероломством. Особенно резко они различались в стиле движения: русы охватывали огромные пространства от Скандинавии до Багдада и Китая, тогда как славяне жили оседло в землянках. См.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX–X вв. М., 1962. С. 31–33; Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–XI вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М. 1965. С. 390–399; Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, 1986. С. 124. [6] Новгородцы осознанно соотносили две разделенные восемью веками смуты — до Рюрика IX в. и после Рюриковичей XVII в. Посольство Никандра (1611 г.) уполномочено было напомнить шведам, что прежние государи русские «и корень их царьской от их же варежского княжения, от Рюрика и до великого государя… Федора Ивановича всеа Руси, был». Посольство Киприана (1613 г.), призывая в Новгород брата шведского короля Густава II герцога Карла-Филиппа, указывало, что в Новгородской земле до покорения ее московским государем правили великие князья, в том числе скандинав Рюрик. См.: ДАИ. Т. 1. СПб., 1846. С. 284; Петрей П. История о Великом княжестве Московском. М., 1867. С. 90, 91, 312. [7] Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 242, 365. [8] См.: Головнёв А. В. Северная перспектива в истории России // Социальные трансформации в российской истории. Екатеринбург; Москва, 2004. С. 483–485. 9 В действительности «движение» и «изобретаемость» не противоречат друг другу — в кочевую эпоху они были технологиями экспансии арабов и по сей день остаются чертами посткочевой арабской ментальности. [9] Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 266. [10] Материалы этнографической экспедиции 2008–2009 гг. под руководством А. В. Головнёва по гранту РГНФ-Урал. № 08-01-83113а/У «Идентичность современного русского и татарского населения Урала: этнография и визуальная антропология». Записи Ю. В. Зевако и А. Е. Курлаева. [11] Smith A. Op. cit. P. 229, 230. [12] Тишков В. А. О российском народе. М., 2006. С. 7–10. [13] Еще поколение назад многие сельские труженики считали советские колхозы и совхозы неуклюжими организациями и вспоминали доколхозные времена как «золотой век». Но как только государство в начале 1990-х отказалось от совхозов,они тут же стали «народными» — общинным достоянием са- мих селян, важным фактором их идентичности. [14] Суни Р. Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 58. |
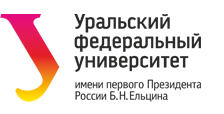 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |