Антропологических Фильмов кинофестиваль |
СЕВЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ИСТОРИИ РОССИИ Идеологии вторила историография, отодвигая Север в сторону от магистрали отечественной истории на роль вечно недооткрытой и недопонятой окраины. Эпизоды северной истории представлялись неким полулегендарным приложением, составленным из преданий о чуди и короле Германарихе, призвании варягов и путешествиях по Бьярмии, могуществе Ладоги и богатстве Новгорода, строптивых соловецких монахах и златокипящей Мангазее, стратегической роли Севморпути и неисчерпаемости сибирской нефти. Образ Севера как кладовой архаических традиций и природных ресурсов имел мало общего с политическими исканиями России на Западе, Востоке и Юге. Дважды, и оба раза в диалоге со Скандинавией, на заре русской государственности и при Петре I, северная перспектива открывалась особенно явственно, но официальная историография и в этих случаях не изменяла обычаю, толкуя, соответственно, о киевско-византийском и западноевропейском приоритетах. В третий раз это происходит сейчас, после отпадения южных секторов бывшего СССР, когда Россия обозначилась на карте северной страной с географическим центром в низовьях Енисея на Полярном круге. Основные доходы она получает с севера, а потери несет на юге, но идеология ее по-прежнему обращена затылком к Северу. Впрочем, ключ к парадоксу геополитического и цивилизационного самоопределения России состоит не столько в толковании дихотомий Запад¬–Восток или Север–Юг, сколько в осмыслении соотношений центр–периферия или государство–народ. При этом «север» предстает не стороной света, а основным пространством нестоличной России; к нему даже формально причисляются или «приравниваются» отнюдь не северные по отношению к Москве районы Азии, а внутри выделяются «Ближний Север» и «Дальний Север» (последний занимает более половины России). Политическая история и этническая история Политическая (гражданская) история пишется в столице или столичном русле, тогда как этноистория — история отдельных народов, отражающая их самобытные ценности — остается уделом фольклора, краеведческих записок и этнологических сочинений. Обе истории основаны на одних и тех же фактах, но их подбор и осмысление ведется в разных плоскостях — политогенеза и этногенеза. В одной плоскости разгром Иваном IV Казани и Великого Новгорода представляется торжеством центральной власти, в другой — трагедиями татарского и русского народов. Советская эпоха обеспечила расцвет государства, но стала драмой для подчиненных ему этнических сообществ. Теоретически линии этногенеза и политогенеза могут совпадать — практически это случается в истории моноэтничных государств (например, Исландии или Японии), но для полиэтничной России даже их сближение выглядит эпизодами (например, в древнерусскую эпоху). Государство (общность по власти) и народ (общность по культуре) различаются как искусственная и естественная социализация. В отличие от власти, культуру невозможно захватить — она составляет одновременно личное и общественное достояние; в отличие от культуры, власть всегда захвачена — она основана на системе личной и общественной зависимости. Впрочем, власть всегда пытается в той или иной мере захватить культуру, а государство — поглотить народ. Иногда, как это было в Российской империи и СССР, государство стремится поглотить сразу несколько народов. Однако чем теснее плоть государства обволакивает плоть народов, тем болезненнее бывает отторжение: оба политических переворота ХХ века в России, на заре и закате Советской власти, были пиками расхождения этногенеза и политогенеза, конфликта народов и государства, вылившегося в стихию «национально-освободительных движений». Напряженный диалог народов и государства заложен в драматургии отечественной истории не только ХХ века, но и предшествующих эпох. Русское государство родилось как система межэтнической зависимости (скандинавов, славян и финнов), а затем, по мере подчинения новых народов и усложнения межэтнического взаимодействия, разрослось до имперских масштабов. При этом в конфликт народов и государства были вовлечены не только «угнетенные инородцы» (авангард революций ХХ века), но и «государствообразующий» русский народ. Наивны суждения государственников и даже теоретиков уровня кн. Н. С. Трубецкого, будто характерным свойством великороссов является способность к «государственному строительству крупного масштаба» (Трубецкой 1995:159). На самом деле русские являются носителями высоко креативной и адаптивной культуры, которую в разное время разными средствами пыталось «национализировать» государство. Старорусской культурно-нормативной традиции, долго сохранявшейся в Северной Руси, свойственна не державность, а всевластие веча при служебной роли наемного князя. «Вечевые люди» были главными врагами ордо-московской державной власти и, проиграв открытое противостояние, первыми бежали от нее — кто на север в поморы, кто на юг в казаки. Именно их усилиями были первоначально освоены Урал и Сибирь, позднее колонизованные государством. На очередном витке конфликт русского народа и российского государства вылился в движение старообрядцев, и вновь его очагами стали общины «вечевых людей» на Русском Севере и в Диком Поле. В революциях начала ХХ в. больше всего удивляет, с какой решимостью русские люди крушили российское государство и отвергали официальную религию. Та же природа конфликта лежит в основе поразительного явления постсоветского времени, когда представители разных народов (включая русских) выражали одновременно волю к возрождению своей этнической культуры и небрежение или неприязнь к государству. Грань между понятиями «русский» (этничность) и «россиянин» (гражданство) затерта идеологией и официальной историографией, преподносящих народ и государство в единстве. Эта замысловатая комбинация этничности-гражданства непереводима с русского (например, в английском и то и другое — Russian) и не распознаваема для самих ее носителей. Конфликт «русскости» и «российскости» тлеет внутри человека, порождая его социальную двуликость. У народов, этничность и гражданство которых явно расходятся, это противоречие разрешается тем, что выносится наружу и принимает социально организованный вид, например, миграций евреев, этнических движений басков в Испании или чеченцев в России. Для «государствообразующего» народа подобная манифестация конфликта недопустима, зато подсознательно зреющий в нем бунт — «бессмысленный и беспощадный». Опыты регулирования государственных и этнических ценностей — как династией Романовых, так и Советской политической элитой — показывают, что «государствообразующий» народ далеко не всегда играет ключевую роль в политогенезе, поскольку элитой может стать этническое меньшинство, захватившее власть при раздоре среди большинства. В отличие от народов, имперское государство по сути космополитично и может пополняться (или даже быть захваченным) иноземцами, заимствовать чужеродные законы, религии и институты. Изменчивость феномена гражданства иллюстрируется быстротечной судьбой «советского народа», провозглашенного Конституцией 1977 г. и вскоре исчезнувшего. Впрочем, тут же был введен в обиход его аналог «россияне», как будто, более благозвучный и долговечный. Нордизм и ордизм Первоначально контакт славян и скандинавов был взаимодействием различных систем адаптации: славянская культура локальных ниш так же органично входила в норманнскую культуру больших пространств, как норманнская торговля и военный промысел дополняли комплекс жизнеобеспечения славян. В устойчивом, хоть и не бесконфликтном, контакте эти культуры усиливали друг друга: норманны разными средствами (торговлей, данью, грабежом) собирали «урожай» на славянских землях, а славяне пользовались услугами скандинавов в дальней торговле и военных кампаниях; норманны создавали колонии на славянских землях, а славяне заселяли новые пространства по проторенным скандинавами путям. В сочетании локальной (славянской) и магистральной (норманнской) деятельностных схем сформировалась обширная общность под названием Русь и родилась новая синтетическая культура, известная как верхнерусская или новгородская. Стихией викингов было море, а символом их культуры — langskip (морской «длинный корабль»). На морских судах викинги доходили из Балтики по Неве до Ладоги, но дальше, за Волховскими порогами, начиналась речная стихия. На пути из Ладоги в Ильмень-озеро и рождалась верхнерусская культура: в устье Волхова стоял норманнский форпост Старая Ладога (старосканд. Aldeigjuborg), а в его истоках был основан верхнерусский форпост Новгород (старосканд. Hólmgarđr). Символом новой культуры стал ушкуй (речное судно), а в ее деятельностной схеме связались норманнская магистральность (дальняя торговля, сбор дани и военный промысел) и славянская локальность (комплекс местных производств, экологических, социальных и сакральных обычаев). По интегративной функции верхнерусская культура к XIII в. заместила культуру викингов на северо-востоке Европы. Экспансия верхнерусской культуры выражалась не в захвате чужих селений и подчинении жителей, а в открытии и поддержании обширной сети коммуникаций. Созданные новгородцами колонии — городки, торжища или промысловые станы в Балтии, Поморье, на Урале или в Поволжье — были малыми копиями Новгорода с его размахом торговли и свободой веча. Их зависимость от метрополии была условной (например, двинские бояре и хлыновцы нередко расходились в политических предпочтениях с новгородцами) и, по большей части, основанной на корпоративно-торговых и личных связях. При ограничении в Новгородской республике прав наемного князя (в том числе на землевладение), обилии гражданских свобод и культе личных амбиций (эталонные фольклорные образы — купец Садко и боец Василий Буслаев), верхнерусская культура создала внушительный корпус права, впечатлявший даже искушенных на этом поприще скандинавов. Например, в саге об Олаве Трюггвасоне одна за другой следуют ссылки на строгие законы Хольмгарда (Новгорода) и Гардарики (Руси), которые соблюдает, наряду с другими, конунг Вальдамар (Владимир Святославич); иногда в тоне сказителя слышатся редкие для исландцев нотки пиетета: «В Хольмгарде господствовал такой нерушимый мир, что, согласно закону, всякий, кто убил человека, не объявленного вне закона, должен быть убит» (Стурлусон 1980:100–101). Примечательно, что описываемая ситуация предшествовала появлению «Русской правды». В XIII в. маятник евразийской истории качнулся на восток. Морские кочевники Северной Европы осели под воздействием не то наступивших холодов, не то христианства. Зато вновь закипела степь, захваченная растущей в войнах ордой Чингисхана. Как в IV в. гунны разбили готскую державу Германариха и надолго установили зависимость «нижних» славян от тюркских каганатов, так по сходному сценарию в XIII в. монголы покорили русские княжества. Впрочем, к Улусу Джучи отошла лишь Нижняя Русь — область рек южного стока, некогда принадлежавшая хазарам. Верхняя Русь, по рекам балтийского стока, оставалась независимой еще более двух столетий, пока не была завоевана Москвой. Подобно викингам на море, монголы в степи развернули гигантскую социальную сеть, основанную на той же триаде война–дань–торг, только доля торговли в ней была ничтожна в сравнении с военно-данническим промыслом. Монгольская культура больших пространств пересекла своими магистралями всю срединную Евразию, захватив на окраинном западе Нижнюю Русь в качестве локальной культуры. На стыке монгольской (ордынской) и нижнерусской культур сформировалась новая, московская (по названию ее форпоста) культура, основанная на жестком централизме власти и военно-данническом промысле. Москва, как показали исследователи евразийской школы, унаследовала от Орды методы управления (русский лексикон пополнился монголо-тюркскими понятиями «деньги», «казна», «таможня», «ярлык», «ясак» и др.) и к XVI в. превзошла по социально-политическому потенциалу рассыпавшуюся на части Орду. В целом верно, хотя и не лишено гротеска, замечание кн. Трубецкого: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу… “Свержение татарского ига” свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву» (Трубецкой 1995:157). В отличие от быстро расцветающих в войне и гибнущих в мире степных кочевых империй, Московское царство укоренилось на нижнерусской локальности, впитав ордынскую магистральность. По устойчивости московская культура не уступала новгородской, а по военно-промысловому потенциалу, при остаточной поддержке Орды, значительно ее превосходила. Исход поединка царя и веча был предрешен, и в течение столетия, с 1471 по 1570 гг., усилиями двух «грозных» Иванов очаг верхнерусской культуры был уничтожен. Дуэль Москвы и Новгорода, трактуемая официальной историографией как борьба централизма с сепаратизмом, в действительности была эпохальным столкновением двух различных евразийских традиций — ордынской и нордической. Норд-русская традиция не пресеклась с разгромом Новгорода. Основанная на индивидуальной деятельностной схеме и по природе не нуждающаяся в крепкой столице, она свободно распространилась по всему Северу Евразии, особенно ярко отобразившись в культуре русских поморов. Деятельностная схема орд-русской традиции, немыслимая без мощного центра и основанная на административно-налоговом промысле, реализовалась в создании иерархической структуры «малых копий» Москвы. Противостояние этих старых традиций до сих пор отзывается в конфликтах российского гражданства и русской этничности, централизма и регионализма. Казус Ломоносова Он оставался помором, вспоминая, как четырнадцатилетним подростком «побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей», как случалось ему видеть нагих лопарок и дивиться их коже, по белизне превосходящей «самую свежую треску». В то время только помор мог помыслить, что «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Во «многих приращениях на восток Российской державы» он видел ведущую роль, наряду с казаками, «поморских жителей с Двины» и других мест Беломорья (Ломоносов 1952:362, 448, 498). В замечаниях к рукописи Вольтера «История Российской империи при Петре Великом» (1757), Ломоносов на фразу «Земля около города Архангельского — весьма новая для прочей Европы, учинилась известна в половине 16 веку» возражает: «В Двинской провинции, где ныне город Архангельской, торговали датчане и другие нордские народы за тысячу лет и больше». Картину прошлого Русского Севера он представляет как диалог чуди и норманнов: «Пермия, кою Биярмиею называют, далече простиралась от Белого моря вверх, около Двины реки, и был народ чудский сильный, купечествовал дорогими звериными кожами с датчанами и с другими нормандцами. В Северную Двину-реку с моря входили морскими судами до некоторого купеческого города, где летом бывало многолюдное и славное торговище: без сомнения, где стоит город Холмогоры». Славяне, по мысли Ломоносова, еще в XI в. расселились «до рек Выми, Печоры и даже до Оби» — в «странах полунощных» они «искали вольность», «ненавидя римского ига» (Ломоносов 1952:91, 190, 195–196). В этих построениях, основанных на врожденном знании и чувстве Севера, Ломоносов первым из русских мыслителей наметил северную перспективу в истории России. Однако сам тут же ее пресек, лишив ключевого звена — участия северных германцев. При этом он толкует о тысячелетнем присутствии «нордских народов» на Русском Севере, но только речь заходит о роли норманнов в общерусской истории, его словно подменяют, и в диссонанс Ломоносову-североведу звучит Ломоносов-антинорманист. Парадокс рассеивается при взгляде на обстановку диалога — Ломоносов ведет полемику с историографом Академии Герардом Фридрихом Миллером. Еще не стихла восторженная истерия по поводу избавления России от «немецкого ига»; совсем недавно в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны» (1747) Ломоносов торжествовал: «Я россов счастьем услаждаюсь, Я их спокойством не меняюсь На целый запад и восток»; и вдруг дух неметчины вновь вырос перед ним в образе профессора Миллера, заявившего в своей диссертации «Происхождение имени и народа российского» (1749) о германских корнях россов (варягов). Немец не только с убийственной педантичностью обнажил священные таинства русской истории, но и выбрал для этого самый неподходящий момент, когда российская идеология впервые пыталась вырваться из иностранных объятий. Миллер готовился произнести диссертационную речь на публичном собрании Академии, посвященном тезоименитству Елизаветы, 6 сентября 1749 г. (перенесенном на 25 ноября, день ее вступления на престол), и идеологическая подоплека норманнского родословия Руси представлялась ему, сообразно торжественному случаю, достойной императорского дома одной из европейских столиц. Бурный протест Ломоносова поверг его в замешательство. «Господин Миллер говорит: “прадеды ваши от славных дел назывались славянами”, но сему во всей диссертации противное показать старается, ибо на всякой почти странице русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют, огнем и мечом истребляют; гунны Кия берут с собой на войну в неволю. Сие так чудно, что ежели бы господин Миллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен» (Ломоносов 1952:21). Ломоносов отверг установленную Миллером связь имени «русь» с финским названием шведов «россалейна» и предложил считать россиян потомками роксолан, славянского (сарматского) народа, в древности расселившегося от Черного моря до Варяжского. Определив, что «российский народ был за многое время до Рурика», он следующим шагом утвердил славянство варягов (руси): «Варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили языком славенским, происходили из древних роксолан или россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною». В свою очередь аргумент славянства Рюрика он ввел в доказательство русско-славянских корней пруссов Немана (откуда немцы) — «варяги-русь и пруссы говорили языком славенским» (Ломоносов 1952:27, 28–29, 33–34, 36–37). По накалу и методам научный спор выплеснулся в русло политической мифологии, где на шахматной доске истории Ломоносов победоносно разыграл партию славян, полагая, что Миллер играет за обреченных германцев. По указу Канцелярии Академии, Миллер был лишен слова на торжественном собрании, а его диссертация подверглась обсуждению на 29 заседаниях Чрезвычайного собрания академиков (с октября 1749 г. по март 1750 г.). По воспоминаниям Ломоносова, «каких же не было шумов, браней и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался в собрании палкою и бил ею по столу конференцскому» (Ломоносов 1952:546–549). В итоге Канцелярия Академии издала указ об уничтожении диссертации, «так как она предосудительная России», а ее автора понизили в чине до адъюнкта (правда, через год звание профессора Миллеру вернули, а диссертацию позволили частями опубликовать). Едва ли российская наука помнит иной пример столь тягостной защиты диссертации. Историк Миллер понес наказание за несвоевременное знание, а просветитель Ломоносов одержал верх, мобилизовав свои дарования ученого, поэта, ритора и придворного дипломата. Он не только изучал историю, но и вершил ее по своему разумению во благо своего народа — он даже стихи писал исключительно для пользы «любезного отечества». Однако, ополчившись на «норманизм», Ломоносов выразил стихийный бунт русского народа против собственной истории. В отечественной науке «варяжский вопрос» до сих пор остается не то камнем преткновения, не то мерилом патриотизма, затеняя собой реальную северную перспективу этнической и политической истории России. |
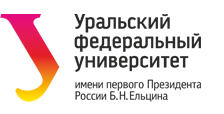 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |