Антропологических Фильмов кинофестиваль |
Этничность: устойчивость и изменчивость (опыт Севера)
Когда к народу относятся как к организму, его соответственно и обследуют, выявляя состояние языка, репродуктивности, национального характера. Этно-врачи (не обязательно профессиональные этнографы) ведут наблюдение за состоянием здоровья народов и прописывают доступные снадобья и рецепты: в одних случаях этно-терапия ограничивается рекомендацией здорового традиционного образа жизни, в других проводятся лечебные процедуры вроде перевода на оседлость; в крайних случаях практикуется этно-хирургия в виде депортации и репрессии. Альтернативные органицистские теории, предполагающие естественные циклы рождения–взросления– старения–смерти этносов, дополняют диагностику понятиями “акматическая фаза”, “пассионарное напряжение”, “гомеостаз”. Органицистская теория этноса по-своему удобна как инструмент гуманитарных технологий, поскольку кодирует информацию в доступной человеку форме (организм постигает организм).
В советское время народы были окружены заботой в целях создания из них “семьи народов”. В ту пору в системе гуманитарных наук существовало плановое разделение труда, когда этнография и “национальная история” отрабатывали этническую специфику, а марксистско-ленинская философия и научный коммунизм осуществляли синтез интернациональной идеи. Здоровье “советского народа” было превыше благополучия отдельных народов. Наднациональным был и вождь – визуальные образы советских лидеров, окруженных детьми и народами, соответствовали ролям отца (пастыря) и разноликой детворы (паствы). Незатейливая схема была общедоступна и практична в социальной инженерии.
Эти правила “игры в доктора” и “игры в отца” не только отвечали реальности, но и создавали ее. Обществоведы, будучи одновременно обществоводами, реализовали проект “советского народа”, ставший для своего времени ментальной и социальной действительностью. В социалистической семье народов значились и малые народы Севера, игравшие отведенную им роль “национальных значков” на геополитической карте СССР и персонажей некапиталистического пути развития.
26 народов
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР “Об учреждении временного положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР” (1926 г.) был сформирован список из 26 малых народов Севера. В те годы строилось новое государство, и обновление народов входило в планы большевиков. Революция подняла волну этногенеза по всей стране, начиная с метаморфозы русских (в менталитете, социальной структуре, образе жизни) и заканчивая самосознанием северных племен, которые, получив новые названия, из инородцев превратились в титульные народы. Всем им было предписано двигаться от первобытности к коммунизму, для чего создавалась письменность и буквари с изображениями Кремля и Ленина. Северным туземцам нашлось место в советском проекте, поскольку “малые народы” были признаны, наряду с пролетариями и бедными крестьянами, социальной опорой новой элиты.
Номенклатура малых народов сложилась из реальной этнографии, но с вкраплением политических и персональных предпочтений. Например, самоеды были преобразованы в три народа (ненцы, энцы, нганасаны), остяки – тоже в три (ханты, селькупы, кеты), но на других основаниях. Если остяки действительно разнились по языку, то самоеды от Белого моря до Енисея представляли собой довольно монолитную по языку и культуре общность. Выделение среди них енисейской группы энцев произошло во многом благодаря установкам этнографа Б.О. Долгих, проведшего в устье Енисея перепись 1926 г.: позднее акт обособления стал фактом самосознания, и до сих пор энцы, насчитывающие немногим более 200 человек, считаются отдельным народом. Мне довелось в конце 1970-х годов начинать среди энцев свою полевую работу в Заполярье и вместе с руководителем экспедиции В.И. Васильевым выяснять, чертя ветвистые генеалогические схемы, что же именно отличает энцев от ненцев. В большинстве случаев эти локально-языковые вариации терялись на фоне тундрово-самодийской культурной непрерывности, но в силу поставленных задач исследователи и исследуемые намеренно выискивали отличия. В 1978 г. один из последних знатоков энецкого языка К.А. Болин отмечал, что язык этот особо ценен потому, что им интересуются “ученые из Москвы”.
Другой пример “этнообразования” связан с подвижнической деятельностью этнографов Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых, которые сочли возможным объединение нарымских и тазовско-туруханских остяков (остяко-самоедов) в один народ, несмотря на отсутствие у них общей идентичности. Прокофьевы начинали свои исследования и учительскую практику на р. Турухан, где местные жители назывались сель-куп (лесной человек). По мнению Прокофьевых, этот этноним подходил для всех рассеянных между Обью и Енисеем племен остяко-самоедов, ставших при советской власти селькупами. Правда, как мне довелось убедиться в 1980-е годы, многие “селькупы” Тыма и Кети назывались иначе (чумуль-кум, сюсю-гум и др.) и до конца своих дней предпочитали считать себя по старинке остяками.
Как видно, Г.Н. Прокофьев и Б.О. Долгих занимались не только теорией, но и практикой этногенеза. Оба случая этнообразования – умозрительные реконструкции предполагаемой в прошлом целостности этих народов, “этногенез вспять”: изначально они были научными гипотезами, но довольно скоро стали реальностью. Насколько ситуация могла быть иной, будь на месте этнографов-переписчиков менее творческие люди, судить сложно. В любом случае очевидна их причастность к судьбам изучаемых народов вплоть до строительства идентичности.
Если для селькупов нашлось единое название, то для туземцев Амура и Сахалина подошла мозаика – в “списке 26-и” они составили целую плеяду народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, ороки, орочи, удэгейцы, ульчи. Отчасти обилие названий и самоназваний связано с соперничеством на Дальнем Востоке нескольких метрополий (Китай, Маньчжурия, Монголия, Россия, Япония), переходами территорий от одной державы к другой (например, “китайская эпоха” этноистории Амура после Нерчинского договора, “японский период” этноистории Сахалина между I и II мировыми войнами). Однако советским экспертам, составлявшим список дальневосточной части “народов Крайнего Севера”, не составило бы труда обосновать тунгусское единство большинства этих племен, руководствуйся они “объединительной” этногенетической логикой Прокофьева.
Порождением революционного ХХ века стали долганы – метисная (саха-тунгусосамоедо- русская) группа Таймыра, оказавшаяся по воле устроителей Севера отдельным народом, к тому же титульным в пределах Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Иначе сложилась судьба другой метисной группы – камчадалов. Перепись 1926 г. объявила их народом, но в конце 1970-х гг. они были изъяты из списка. Чиновники вынуждали камчадалов “отказаться от прежней национальности и стать по выбору либо ительменами, либо эвенами, либо русскими, либо орочами, либо коряками”; в 2000 г. камчадалов вернули в список, но только в пределах Камчатской области (в Магаданской области они остались “вне закона” – см.: Сирина 2005: 88–91).
В советское время этнографы описывали народы Севера в номенклатурном порядке, обосновывая и закрепляя этот порядок в статьях, монографиях, справочниках, докладных записках (см., например: Соколова, Пивнева 2004; 2005). Диалог исследователей с исследуемыми предполагал оборот этнографических данных: этнографы собирали сведения о народах, а затем в переработанном виде возвращали их народам. Самым эффективным каналом этого возвращения служил ленинградский Институт народов Севера, где выращивалась северная “национальная интеллигенция”. В какой-то мере советский этнограф выполнял функцию чиновника, отвечающего за “свой народ”. В этом деле было не до разноголосицы, и этнографов требовалось немного – один-два на народ (в московском и ленинградском отделениях Института этнографии). Так, в 1970–1980-е гг. ответ за ненцев держали В.И. Васильев и Л.В. Хомич, за саамов – Т.В. Лукьянченко, за нганасан – Г.Н. Грачева и Ю.Б. Симченко, за обских угров – З.П. Соколова, за кетов – Е.А. Алексеенко, за эвенков – Г.М. Василевич и В.А. Туголуков, за чукчей и коряков – И.С. Вдовин и И.С. Гурвич, за народы Амура и Сахалина – А.В. Смоляк и Ч.М. Таксами. Этнографы играли роль посредников между властью и северными сообществами. Регулярно издаваемые коллективные монографии (например: Этногенез 1980; Этническая история 1982) были структурированы по народам и давали ответы на основные вопросы их происхождения и развития, задавая тон этнориторике на Советском Севере.
В советскую эпоху 26 народов Севера планомерно шли “от патриархальщины к коммунизму”, развивая “национальную по форме и социалистическую по содержанию” культуру. Но стоило режиму рухнуть, и этногенез вышел из-под контроля. За двадцать постсоветских лет список коренных малочисленных народов Севера вырос до 40. Этот пипл-бум – итог не только подвижничества этно-активистов, лоббирования этнографов, но и своего рода передел “привилегий 26-и”.
От легкости, с какой выросло число “коренных народов”, возникает смешанное ощущение могущества и бессилия этнографической науки. Если этно-взрыв – живая реальность, то советские этнографы либо прозевали его, либо подготовили. Если он – административное дело, то северный этногенез вершится в Москве, и этнограф выступает специалистом по обычаям не столько северян, сколько столичных чиновников. Пост-советские народоведы действительно проявили больше чиновничьего проворства, чем научной основательности. Но не является ли это проворство знаком развития науки в ритме современности? Может быть, и этногенез сегодня намного стремительнее, чем был в неолите?
Мотивы постмодерна
Закат советского проекта совпал с глобальным ментальным сдвигом от модернизма к постмодернизму. Прочная идеологема уступила первенство мобильному проекту. Стихия постмодерна – конкуренция множества проектов, настроенная не на победу одного из конкурентов, а на их долгосрочный диалог. Если модерн был ареной борьбы за господство (и в этом смысле следовал древней традиции “право победителям и горе побежденным”), то постмодерн обустроил поле многообразия и противовесов. Среди расшатанных метанарративов модерна оказалась и системная категория “этнос”. Однако слом метанарративов произошел не полностью, не для всех и, наверное, не навсегда.
Этнологический парадокс постмодерна состоит в том, что при кризисе конструкта “этнос” случился бум этничности. В 1990-е годы Север был охвачен стихией национальных и националистических движений, в которой появились прежде не аккредитованные народы, сложились новые этнические элиты, возникла целая сеть общественных ассоциаций (в том числе централизованная АКМНСС и ДВ РФ). В северной этнографии произошла подвижка, совпавшая с безвременным уходом из жизни ряда выдающихся советских североведов, – из среды коренных северян выросла и обрела влияние целая когорта исследователей собственной этнической культуры. Особенно заметны на этом поприще успехи томской школы Н.В. Лукиной, давшей рост двум окружным научным центрам (в Югре и на Ямале) и многочисленному сообществу защитивших диссертации этнографов (среди них Р.К. Бардина, Т.В. Волдина, М.А. Лапина, Т.А. и Т.А. Молдановы, С.А. Попова, А.М. Сязи, Н.М. Талигина, Г.П. Харючи). Примечательно, что этих исследователей гораздо меньше волнуют сюжеты этногенеза, чем их столичных предшественников, и больше – фольклор, орнамент, сакральное пространство, этническая этика. По замыслу Н.В. Лукиной, инициировавшей проект подготовки ученых из среды коренных северян вопреки скепсису коллег, публикация знаний о культуре своего народа должна повлечь за собой “информационный взрыв в этнографической науке” (Лукина 2002: 27). По своей методологии этот постмодернпроект принципиально отличается от господствовавшей прежде модерн-традиции и активирует новый потенциал этничности в лице северных профессионалов-гуманитариев.
Подобных поворотов этноистория российского Севера еще не знала, и, возможно, именно сейчас в головах интеллектуалов-северян нового поколения зреют нестандартные идеи этнического развития. Они могут идти вразрез с традицией (хотя и апеллировать к ней, как культуротворческие проекты Ю.К. Вэлла и А.П. Неркаги) и открывать новые перспективы, непривычные для этнологии. Впрочем, потрясения 1990-х всерьез обновили и этнологию, которая сегодня априори готова к любым этническим метаморфозам.
Современная антропология нередко смакует тему контраста традиций и новаций. Применительно к Северу это особенно заметно в обсуждении конфликтов “старого и нового”, в призывах бережно хранить традиции подальше от новаций. Между тем традиция – если ее понимать как проявление самобытности, а не как уцелевший рудимент – жизнеспособна лишь в потоке реальности. Этнокультурное огораживание способствует не сохранению, а усыханию традиций. Это относится и к культурному наследию, которое мертвеет в закрытых хранилищах и оживает в открытом информационном пространстве.
Одним из въевшихся в сознание штампов модерна является изображение северных традиций древними–ценными–неизменными, а потому требующими к себе почтения, изучения и охранения от пагубного воздействия современности. Спектр проекций этого штампа широк – от изоляционистских моделей резерваций («назад в пещеры») до исключения северян из числа конкурентов на проектном поле современности. Многих вполне устраивает сувенирно-заповедная ниша, отведенная культурам Севера. Между тем уже в 1980-е гг. был инициирован альтернативный проект неотрадиционализма, предполагающий обновление культур Севера в синтезе традиционализма и модернизма (Пика 1996). К несчастью, трагическая гибель А.И. Пики (1951–1995), вдохновителя этого многообещающего проекта, замедлила его дальнейшую разработку и реализацию.
Вопреки штампу, северные народы и культуры наделены высоким потенциалом преобразования на собственной деятельностной основе. Например, в середине II тыс. н.э. Евразийская Арктика преобразилась в ходе так называемой оленеводческой революции. Российская колонизация вызвала, помимо прочего, стремительное развитие технологий товарной пушной и рыбодобычи. И при жестком советском режиме некоторые сообщества (например, тундровые ненцы-кочевники) сумели обновить традиционное производство и приспособить даже колхозы под собственные нужды. А в постсоветские годы те же ненцы едва ли не первыми в России преуспели в наращивании производственных ресурсов, причем не за счет передела или перепродажи чужой собственности, а на основе своей, сконцентрированной в оленеводстве (см. подробнее: Головнёв 2004). Лидеры северных народов быстро адаптировались к политическим бурям постсоветского времени и успешно освоили ремесло дипломатии и администрирования на локальном, региональном, федеральном и международном уровнях.
В 2004 г. вышел в свет “Доклад о развитии человека в Арктике” – первый комплексный научный обзор циркумполярного Севера. В нем на основе обобщенного опыта всего Севера отмечается, что позиция сбережения традиций сегодня сталкивается с вызовом стремительных перемен. Северным народам вовсе не чужды перемены, более того, готовность к ним заложена в самой природе гибких и адаптивных северных культур. “Арктические общества и культуры – особенно коренных народов – имеют большой исторический опыт адаптации, основанной на свойстве быстро приспосабливаться к изменениям экосистем, от которых они зависят, и даже извлекать выгоды из биофизических и социальных изменений для улучшения своего состояния. Способность этих народов использовать преимущества, предоставляемые современными практиками и технологиями (например, снегоходы, вертолеты, Интернет), должна восприниматься как признак скорее жизнеспособности, чем упадка культуры. Традиции динамичны” (Einarsson, Young 2004: 230).
Международному обзору вторит опубликованный в том же году экспертный доклад Института этнологии и антропологии РАН: “Было бы ошибкой считать “традиционное хозяйство” самой основой жизни этнической общности и отдельно взятого аборигена. Следует учитывать, что традиционность начала XXI в. не совпадает с той, что была характерна для начала ХХ в., а сегодняшние инновации – это завтрашние традиции”. Предложенный в докладе подход многовариантного развития “включает создание точек роста на основе конкретных проектов и приоритетную установку на создание более качественного человеческого ресурса. Этот подход учитывает способность человека любой культуры и социальной среды к инновациям, отдает предпочтение индивидуальным стратегиям людей” (Тишков 2004: 11, 182).
Популярная концепция “устойчивого развития”, на которую ссылается этот доклад, исходит изначально из природоохранных соображений и, распространяемая на коренные народы, несет в себе акцент консервации. Правда, в оригинальной версии понятие “sustainable” содержит не только смысл “устойчивости”, но и оттенок “изменчивости” (управляемости, регулируемости). И все же установка на “поддержание” без активного “продвижения” обречена в современном мире на старение. В этом отношении заявленная в экспертном докладе стратегия “точек роста” представляется более практичной для северян, чем апология “устойчивости”.
Еще одним штампом модерна представляется соотношение “Крайний Север – малый народ”, укоренившееся в советской риторике и, благодаря социальным льготам, доныне сохраняющее привлекательность. Между тем, Российский Север издавна населяют не только малые, но и большие народы – коми-зыряне (293 тыс. в 2002 г.) и якуты (444 тыс.), а также русские поморы, чье историко-культурное наследие измеряется не локальными, а евразийскими масштабами. Кроме того, коренные народы Севера сумели превзойти основное население России и по темпам демографического роста, и по уровню сохранности традиций. “Уменьшительно-ласкательный” взгляд на северян имеет мало общего с праисторической и исторической реальностью, созданной на просторах Евразийского Севера народами индоевропейской, уральской, алтайской, палеоазиатской и эско-алеутской языковых семей. В разное время здесь доминировали мощные культуры скандинавов-норманнов, эскимосов эпохи туле, русских поморов, коми-зырян, якутов, угров эпохи княжеств, ненцев, эвенков, объединявших огромные территории сетью миграционных, торговых и военно-политических связей. На Севере рождались и развивались культуры больших пространств, а не малых народов.
Примеры коми, ненцев, саамов и якутов, не говоря уже о русских, скандинавах и финнах, побуждают к пересмотру устоявшихся критериев статуса жителя Севера. Во времена колониализма и патернализма Север было удобно видеть ресурсной окраиной, населенной мелкими отсталыми народами. Современный Север выглядит иначе, особенно после обретения независимости Исландией (1944 г.), статуса штата – Аляской (1959 г.), создания Домашнего Правления на Фарерах (1948 г.) и в Гренландии (1979 г.), обретения реальных полномочий субъектов федерации северными республиками, областями и округами России (1990-е годы), учреждения территории Нунавут в Канаде (1994 г.), формирования Саамских парламентов (1980–90-е годы). Северу ничуть не повредит осознание того, что с древности он был родиной крупных народов и мощных культур, в том числе североевропейских. Северная мультикультурность исторически основана на сочетании потенциалов малочисленных и многочисленных народов, и укрепление северной идентичности напрямую связано с избавлением от комплекса этнокультурной неполноценности.
Численность “коренного народа” в России до сих пор формально ограничена 50 тыс. человек, вследствие чего живущие на Севере коми и саха (якуты) лишены подобного статуса. Это ограничение делает двусмысленным и положение саамов, число которых в России (около 2 тыс.) соответствует статусу коренного народа, а общая численность в Фенноскандии и России (около 57 тыс.) выходит за обозначенные рамки. Сходная ситуация с эвенками, которых в начале XXI в. века было далеко за 60 тысяч (свыше 35 тыс. в России, 30 тыс. в Китае, 3 тыс. в Монголии). Если крупнейший из коренных малочисленных народов Российского Севера – ненцы – сохранит динамику популяционного роста (29 тыс. в 1979 г., 34 тыс. в 1989 г., 41 тыс. в 2002 г., более 48 тыс. в 2010 г.), то совсем скоро ему грозит утрата формального статуса КМНС. Возможно, ненцы уже сейчас перевалили заветный рубеж, но скрывают это, как скрывали численность своих оленей в совхозные годы. Именно ненцам, ввиду перехода в “новую весовую категорию”, суждено сойтись в поединке с застарелым штампом.
Инерция идеологии модерна выражается в том, что привилегии для этнических меньшинств побуждают большие народы к сегментации. Например, о своей этнической самобытности и независимости от других коми-зырян заявляют оленеводыижемцы (около 15 тыс. чел.), живущие по соседству с “привилегированными” ненцами и стремящиеся уравняться с ними в правах. Нелепа правовая ущербность русских старожилов, чьи предки укоренились на Севере несколько десятилетий или столетий (поморы) назад. Поморы – гордость русской истории и культуры – лишены права на использование базовых ресурсов моря и леса. Разного рода инспекции произвольно штрафуют жителей беломорских деревень за лов рыбы и порубку леса. Выход из критической ситуации местные общественные лидеры видят в объявлении поморов “малочисленным народом” – отречении от слишком большого русского народа в пользу аборигенности.
Привилегии меньшинств действенны и позитивны, если они не ущемляют прав и достоинства окружающего большинства. Иначе они оборачиваются своей изнанкой, провоцируя межэтнические трения и вызывая негативные обходные контрмеры. Тактика временных льгот эффективна, когда побуждает к саморазвитию, а не становится консервирующей традицией и лицензией на паразитирование и сувенирность. Всякое сращение льготности с этничностью усиливает не самобытность, а зависимость.
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективные модели позиционирования северных меньшинств – на Аляске, Ямале, в Гренландии, Лапландии, Нунавуте, Тромсе, Югре – основаны на структурировании региональной идентичности, сочетающей ценности северных меньшинств и пришлого населения. При этом повсюду, и особенно в России, отмечаются встречные тренды укоренения пришлых и расширения деятельностной сферы коренных северян. Именно на основе внутрирегиональных практик диалог культур на Севере сдвинулся в последние годы от фронтирного противоборства к конструктивному взаимодействию коренных и укорененных.
Глубины этничности
Насколько административные акты порождают этнографические факты? Или современные представления о дрейфе этничности – иллюзия постмодерна, неловкая проекция сегодняшней изменчивости на вчерашнюю устойчивость? Иногда этногенез кажется тенью идеологии: вчера идеология сияла – и у народов были ясные очертания, сегодня идеология померкла – и этнографическая явь предстала сумеречным наваждением. Чтобы совладать с призраками, неплохо бы уяснить, с чем этнология имеет дело – исконным социальным свойством, химерой, ментальным орудием (оружием) вождей или нерасчленимой смесью всего этого.
При извлечении научного знания из реальности этничность можно анализировать по частям, но при возвращении знания в реальность снова образуется нерасчленимая смесь. Этничность как будто познаваема, но не управляема. При этом после научнополитической переработки она изменяется не по правилам науки и политики, а по собственному набору сценариев. Так, на Севере, вопреки увещеваниям науки и жесткой политике перевода на оседлость в 1930–1940-е гг., оленеводы-ненцы продолжали кочевать, молиться собственным богам и поднимать антисоветские восстания (мандалада). В те годы это списывалось на “вековую отсталость”. Зато сегодня ненцы – яркая “точка роста” этнической культуры и неотрадиционализма на российском и циркумполярном Севере (не случайно из их числа вышел и президент Ассоциации коренных народов Севера – С.Н. Харючи). Среди народов современной России они – лидеры и по использованию потенциала собственной этнической культуры “на душу населения” (оригинальная религия, мифология, кочевой оленеводческий культурнохозяйственный комплекс), и по практике родного языка (им владеют . ненцев в местах традиционного расселения), и по демографическим индексам (особенно высока репродуктивность ненцев-кочевников).
В прежние столетия реконструируются не менее противоречивые метаморфозы. Полтысячелетия назад группы самоедов – охотников на дикого оленя и морского зверя – были рассеяны по просторам Арктики и Субарктики. Скандинавская и российская колонизация Севера вызвала “бегство в кочевники”, и ведущим мотивом охватившей тундру оленеводческой революции было стремление к свободе, а не хозяйственные нужды или климатические сдвиги, как обычно считается. Миграции тундровых охотников сопровождались борьбой за стада оленей и контроль над отдаленными территориями. В этой борьбе лидерство захватила североуральская Карачейская орда, распространившая свое влияние по урало-западносибирским тундрам. Собственно, вожди Карачейской орды и создали этнокультурное единство, называемое сегодня ненцами, причем в их состав вошли представители других групп, в том числе северные угры (роды хаби), восточные самоеды (роды мандо). На российскую колонизацию и христианизацию самоеды в XVII–XVIII вв. ответили религиозной войной и укреплением традиционных культов. На практику управления тундрой через остяцких князей Тайшиных они в XIX в. отреагировали выдвижением собственного национального лидера (Пайгола Карачейского) и восстаниями Ваули Ненянга и Пани Тохо. Все эти события явились факторами этнической мобилизации, а благодаря интенсивной коммуникации и обширным миграциям на всю тундру распространился общий язык – тундровые ненцы от Белого моря до Енисея говорят на одном диалекте.
Примечательно, что эти впечатляющие вехи этноистории обычно тонут в подробных этнографических описаниях ненецких оленей, чумов и обрядов. В советское время ненцы занимали причитающееся им по алфавиту место среди 26 малых народов, выделяясь разве что численностью и недостаточной оседлостью. Речь шла то об их вымирании (при царизме), то о процветании (после революции), то опять о вымирании (после “перестройки”). В науке и публицистике рубежа 1980–1990-х годов царило не то уныние, не то отчаяние по поводу их судеб и перспектив. На конгрессах и конференциях мне не раз доводилось вызывать недоумение российских и зарубежных коллег рассуждениями о высоком потенциале северных культур, в частности ненцев. Мало-помалу тон североведческих форумов изменился, и сегодня в их тематике нередко фигурируют сюжеты успешного опыта этнического развития, сравнения “победителей и проигравших” на Российском Севере. Популярным стал пример “победителей-ненцев” с их успехами в оленеводстве и устойчивой традиционной культурой.
Устойчивой? Или изменчивой? Ненцам свойственна оригинальная жизненная стратегия устойчивой изменчивости или изменчивой устойчивости. В ее основе – движение, от физического кочевания до культурной динамики. За несколько веков этничность тундровых самоедов повернулась несколькими ликами: арктический охотник, тундровый разбойник, ревностный язычник, крепкий оленевод, непокорный бунтарь, колхозный пастух, успешный собственник. Во всех случаях, при их ситуативном многообразии, на первый план выступает самореализация, которая и генерирует то, что образует ненецкую этничность. В ее основе – власть над собственной судьбой. Самобытность состоит не в наборе особенностей, а в мотивационно-деятельностной схеме, генерирующей эти особенности.
Насколько древней может быть подобная схема самореализации? На севере Евразии ее прототип мог быть исходным, поскольку само по себе освоение Севера – оригинальная самореализация. Во всех стратегиях колонизации ключевым звеном является контроль над пространством, и в зависимости от характера территории и стратегии контроля над ней складываются более или менее долговременные туземные сообщества. Схема контроля над пространством и есть стратегическая традиция, генерирующая устойчивость и общность культуры в спектре ситуативных вариаций.
По С.А. Арутюнову, “этносы как формы культурной вариабельности могут рассматриваться как адаптивные механизмы, изоморфные различным видам биологической вариабельности” (Арутюнов 1989: 57). Это как раз та платформа этничности, которая крепит ее к определенной территории. Археологически и этнографически на Севере Евразии выделяются области со специфическими схемами движения и коммуникации. Так выглядят, например, сибирские “рыболовные омуты” – долины Амура и Оби, где от эпохи к эпохе развивались локальные культуры и оседали подвижные соседи. По системам коммуникации самобытны “оленные тундры” Арктики, морская и речная сеть Русского Севера и Берингии, среднесибирское плоскогорье, магистральная долина Лены, горные страны Алтая, Саян и Урала. Археология фиксирует устойчивость культурного рубежа между Западной и Средней Сибирью, где на протяжении столетий и тысячелетий контактировали, периферийно смешиваясь, ленские и уральские культуры. Устойчива и картина “антропологических непрерывностей” Северной Евразии – обширных сетей коммуникации, в которых формировались и развивались так называемые языковые семьи. В поддержании этих непрерывностей важную роль играло сочетание занимавших отдельные экониши локальных культур и связывавших их магистральных культур.
В отличие от открытых пространств степей и морей, труднопроходимая тайга не располагала к развитию мощных магистральных культур. Однако своя система магистралей существовала и в лесах. Речные и водораздельные пути поддерживали связи между локальными сообществами, и среди жителей тайги, например, древних уральцев, с давних пор существовал слой мобильных посредников. С севера и юга уральская тайга окаймлена открытыми пространствами тундры и степи, где сложились подвижные культуры (мадьяр в степи, самоедов в тундре), эпизодически связывавшие локальные таежно-речные группы. Устойчивость лесного уральского мира, сотканного из локальных культур и соединенного “медленными” речными магистралями, выражена в преемственности археологических культур. Локальные культуры создавали мозаику освоенного пространства, магистральные играли ключевую роль в движении и колонизации. Локальная идентичность соответствовала культурной самобытности, но существенно корректировалась носителями магистральной культуры, нередко выступавшими в роли колонизаторов. Часто в обособлении локальных сообществ со стороны колонизаторов обозначалось их союзничество или враждебность, религиозная близость или чуждость. Например, российская колонизация отделила крестившуюся пермь от “безверных вогуличей”, “воровскую самоядь” – от служилых остяков, непокорных чукчей – от союзных юкагиров.
* * *
Во все времена этничность не появлялась и не исчезала, а лишь меняла свой облик, дрейфуя между пиками и спадами политики, религии или экономики. Пока в ней что-то исчезает, что-то тут же появляется. Она похожа на реку, которая постоянно куда-то утекает и откуда-то прибывает. Этничность – не косная традиция, а постоянно генерируемое явление. Эта возобновляемость обусловлена персональной и групповой стратегией самоопределения и безопасности. Этничность представляется самой естественной и доступной (вслед за брачно-родственной) социальностью, поскольку в ней реализуется общность понимания и доверия. Скорее инстинктивно, чем осознанно, люди в драматических ситуациях ищут спасения в этничности (или религиозной идентичности) и в ней же черпают ресурсы самореализации и позиционирования. В зависимости от состояния элитных групп и внешних контактов этничность может нагнетаться, унифицироваться, рассеиваться, дробиться. Однако, будучи сколь угодно изменчивой, она остается устойчивым свойством социальной материи, и этно-инстинкт выявляется у людей всех эпох и культур.
Северу свойственна, с одной стороны, устойчивость культур и систем коммуникации с глубокой древности. С другой стороны, высокая адаптивность северных сообществ к экологическим и социальным переменам обусловила их изменчивость, которая стала залогом устойчивости. Сценарии этноистории развиваются на Севере не по каким-либо генеральным законам эволюции или роста организма, а в ситуативном диалоге локальных и магистральных культур, стратегиях и действиях их элит. Ключевым мотивом этничности во все времена был контроль над природным и социальным пространством.
Литература
|
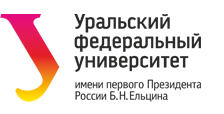 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |