Антропологических Фильмов кинофестиваль |
КРУГИ СВОЯ В первую самостоятельную этнографическую экспедицию на Север я выехал с блокнотом для записей, компасом и стареньким отцовским фотоаппаратом. Мне везло на впечатления и происшествия, я делал их описания и снимки. В то время мне казалось, что лучшим способом покорения новых пространств является исследование. Познавая неведомую мне северную культуру, я будто поедал ее, хотя вместо насыщения испытывал растущий голод. Но уже тогда, двадцать лет назад, я столкнулся с образами, которые не сумел проглотить. Это случилось в поселке Кутопъюган на берегу Надымской Оби, куда я приехал летом 1978 г. Недели три я втискивался в жизнь поселка, а он привыкал ко мне. Вскоре даже псы, кроме рыжего с бельмом на глазу, перестали на меня взлаивать. Два моих любимых старика уже вовсю рассуждали о старой религии и мифологии. Иногда ко мне в заезжую каморку среди ночи врывался кто-нибудь из новых приятелей то с предложением выпить водки, то с желанием досказать что-то забытое днем. Мой дневник вспух от записей, и я ликовал от мысли, что экспедиция удалась. Но с одним впечатлением я никак не мог поладить. На окне моей каморки не было занавески, и белая ночь не давала уснуть. Я выходил наружу, бродил по поселку и цепенел от ощущения, что брожу во сне. Белая ночь ничуть не темнее дня, на небе видна луна, но какая-то жалкая и голая, а поселок пуст и нем, будто покрыт стеклянным колпаком. Окна не светятся изнутри, а блестят отражениями. Кроме меня, среди ночи жила только свисающая с крыши проволока, и ветер стучал ею по стеклу. Я уходил за поселок на высокую сопку, садился и в бессилии смотрел вниз. В оцепеневших домах было что-то зловещее и притягательное, а в голове моей шло кино о череде белых дней и ночей, которое я не мог снять. Вместо кино я набрасывал рифмы и подбирал к ним мелодию: То, что здесь твердят о рассветах — бред, Затем я уехал на стойбище Ярцанги, где ловил с ненцами осетров. Однажды меня заставили съесть сердце только что выловленного осетра. Я храбро надкусил, и сердце обдало меня фонтаном крови. Все стойбище умирало от смеха, а я растерянно смахивал с лица и куртки теплые сгустки. Так я впервые участвовал в ненецком обряде проводов лета и вновь думал о кинокамере. Через пару дней Нюбито Неркыгы, с которым я выехал на рыбалку, поймал здоровенного осетра и долго боролся с ним в стиле хэмингуэевского старика. В одно мгновение лодка зачерпнула целую волну, я самозабвенно ворочал веслами, а моя полевая сумка с фотопленками наполнялась водой. Лишь треть снимков с грехом пополам удалось проявить. В следующую экспедицию я взял с собой кинокамеру. Театр этнографии Отцы реального (документального) кино — Флаэрти, Вертов, Ерофеев — начинали с Севера, с этнографической экзотики. Казалось бы, трудно найти менее подходящее место для творческого зачатия, но оно случилось именно в лоне северной этнографии. Подросшее кино пустилось в странствия по свету, все дольше засиживаясь в городских кухнях и застревая в подворотнях. Незаметно на смену северному мифу пришла злоба дня. Правда, старушка этнография и сама заторопилась в город. Сегодня лишь отчаянные традиционалисты хранят верность мифам и обрядам, а основной поток исследователей хлынул в урбанистику, статистику, политику, право. Так что злоба дня охватила и этнографию, и в этом смысле реальное кино может по-прежнему считаться этнографичным. Если бы кино осталось жить на Севере, оно бы вскоре опустошило всю мифологию и превратило экзотику в обыденность — кино не может не быть вампиром. На Севере, собственно, и снимать-то нечего: голый горизонт, пурга, чум, из чума дым, бегут олени, за оленями люди. Только тем Север и отличается от города, что там живут легенды. Я пытался увезти легенду с собой, но вдали от своей страны она чахла и таяла, как Снегурочка. Нечто странное происходит и с этнографией. Наукой она становится только в городе, а на Севере ничем не отличается от просто жизни. В экспедиции я бездумно впитываю в себя северную культуру и лишь по возвращении способен отжать из себя нечто аналитическое. С некоторых пор я считаю, что входить в чужую культуру нужно голым с завязанными глазами. Тогда она отвечает гостеприимством и щедростью. За письменным столом культура подвергается терзанию на разделы и параграфы, облекается в несвойственный ей книжный язык и, убранная и причесанная, лишь отдаленно напоминает ту строптивую дикарку, к которой я езжу на Север. Иногда мне мешает вопрос, зачем я трачу жизнь на познание чужих культур, зачем вообще существует этнография? Системно мыслящие люди подскажут, что этнография нужна для межнационального диалога, для сохранения и развития традиций, что выросла она в тени колониализма как практическое знание по управлению народами. Все это мне понятно, но чуждо. Помогать кому-то править народами я не хочу, а традиции, если достанет им сил, выживут и без меня. Мне ближе другая сцена, когда на площадь древних Афин стекаются толпы людей и часами слушают рассказы бродяги, вернувшегося из Скифии, о гиперборейских странах. Они не собираются завоевывать гипербореев и наживаться на торговле мехами, но почему-то не уходят с площади. Затем кто-то слагает гимн о путешествиях Аполлона к гипербореям на запряженной лебедями колеснице, а Геродот пишет 4-ю книгу своей Истории. Древние греки остались непревзойденными этнографами, потому что умели не анализировать культуру, а жить в ней и мыслить ею. Позднее варвары, принявшие христианство, доросли до идеи разделения культур на истинные и ложные. Аполлон уже никуда не летал, и блаженные гипербореи, некогда певшие гимны своим и греческим богам, стали богопротивными иноверцами. Этнографию вместе с ведьмами и волхвами привязали к столбу и сожгли. Много лет спустя из ее пепла выросло нечто новое, заговорившее языком Чарльза Дарвина об эволюции рода человеческого. Новорожденная этнография-наука потрясла христианский мир многобожием. Для нее не было ничего невозможного — люди разных культур открывали такое многообразие истин и моралей, что “Утопия” Мора казалась на их фоне вялой прозой. Стихия этнографии подмыла (а для кого-то и полностью снесла) религиозную плотину, отделявшую дозволенное от недозволенного. За древние обычаи, как за книгу откровения, хватались все социальные экспериментаторы нового времени. Достаточно впомнить возбуждение Маркса и Энгельса от прочтения “Ancient Society” Моргана, рассуждавшего об изначальном отсутствии на Земле моногамной семьи, частной собственности и государства (Ф. Энгельс даже не удержался от публикации вольного конспекта этой книги за собственным авторством). В раннем СССР этнографическая эйфория довела до того, что исторический факультет 1-го Московского университета был переименован в этнологический. Правда ненадолго (1925-1930), и вскоре этнографию в Советском Союзе низвели на уровень вещеведения, заставив изучать быт. Джинна вернули в бутылку, чтобы не мешал единомыслию и интернационализму. В советское время давалось много определений этнографии, и все они назойливо повторяли, что наука эта изучает быт. Лев Гумилев посмеивался над ними и говорил об “импульсах поведения этнических коллективов”. А своими рассказами о хунну и монголах он живо напомнил мне того странника-эллина, который повествовал на площади Афин о далеких гипербореях. Я просмотрел несколько видеозаписей с лекциями Гумилева. Это этнографическое кино, хотя в нем нет экзотических нарядов и кровавых ритуалов. В нем один персонаж, но он воссоздает собой пространство этнографии. И древнегреческая этнография представляется мне театром, в котором на сцену выходят иноземные культуры. И в Дионисиях, и в Теофаниях Аполлона не последнее место занимали этнографические композиции — богам приходилось так много странствовать по свету, что этнография составляла часть их мифологии (или наоборот, этнографическая страсть толкала греков и их богов к странствиям). Греки могли себе позволить не изобретать кино, поскольку их мировосприятие строилось на живых образах. Вот только зачем это нужно было грекам? Зачем в 12-ти томах расследовал обряд “золотой ветви” Фрэзер? Зачем рассказывал о гуннах Гумилев? При этом, казалось бы, проще и нужнее рассказывать о собственной культуре. Нет, этнографов тянет куда-то в Зазеркалье. Слово “этнос” (Sqnoj) греческое, но обозначает не свой народ, а чужеземные. Соответственно, и этнография изначально была обращена только вовне. Позднее этнографы разных стран пытались связать в единую науку знания о своих и чужих. Не получилось нигде. И не получится, потому что эти знания разные, как день и ночь. В познании своей культуры человек растерянно вертит головой по сторонам, не зная, на чем (всюду одинаково бесценном) остановить взгляд. Он не различает контуров собственной культуры, потому что она и есть его зрение. Зато над чужой культурой он парит, как коршун. В отличие от “человека”, этнограф спускается с небес и, сбросив хищное оперенье, входит в новую стаю (во времена от Гомера до Аристотеля словом “этнос” называли стаю). Здесь он, как бы покладисто себя не вел, остается гадким утенком, но это и помогает ему сохранить два взгляда, в упор и издалека, на приютившую его культуру. Он ведет с ней непрерывный диалог и полагает, что успешно ее познаёт. Наверное. Но в еще большей степени, отражаясь в чужой культуре, он познаёт самого себя. К этому и призывала надпись над входом в храм Аполлона в Дельфах, из этого и родилась этнографическая страсть. В самой экстравагантной этнографической культуре есть нечто близкое самому уравновешенному обывателю-европейцу. По справедливой или несправедливой воле всевышнего это нечто расцвело в одной культуре и подавлено в другой. Если этнографические причуды воспринимать не как курьезы, а как выразительные черты человеческого естества (стертые у европейцев), то этнография покажется пантеоном культур — не только зрелищем, но и самосозерцанием, поскольку в каждом джентльмене дремлет охотник за головами. Иногда дикарская культура вдруг видится осуществлением потаенной мечты — чем-то до боли знакомым, но не имеющим названия в родном языке. Тогда этнограф подвергается искушению любви к чужой культуре, Гоген остается жить на Таити, а Флаэрти едет снимать кино про эскимоса Нанука. Археология кино Разглядывая древние петроглифы на берегу Онежского озера, археолог Лаушкин заметил, что выбитые в граните силуэты в какой-то момент вдруг оживают. Это случается, когда на омываемые водой камни падают под определенным углом лучи солнца. Движущиеся фигуры древних духов заставили Лаушкина заговорить об истоках кино. Нечто подобное происходит, когда на сводах пещеры Ласко в колеблющемся свете факелов проступают образы зверей палеолита. Эту пещеру археологи называют Сикстинской капеллой первобытности. Если идея кино действительно родилась в палеолите, то становится понятной легкость его восприятия людьми независимо от уровня их первобытности. Правда, древнее пра-кино было совсем не реалистичным: на писаницах нет картин уютного быта, а люди изображены невнятными пиктограммами, масками и звероподобными монстрами. В этом смысле сегодняшие фантазии Голливуда ближе всего именно к пра-кино. В до-логике первобытного мышления этнограф Леви-Брюль усмотрел закон сопричастности (loi de participation), когда реальное явление неразделимо с его изображением, именем, символом. Сопричастность позволяет не только увидеть зверя в отпечатке его лапы, но и свыкнуться с мыслью, что живущие в Бразилии люди племени бороро — красные попугаи. И этот закон, говорит Леви-Брюль, настолько же древен, насколько и вечен, так как заложен в социальной природе человека. И какими бы кругами здравого смысла мы себя не очерчивали, все равно обречены жить в пространстве символов и мистики. Дзигу Вертова нередко упрекают в том, что он показал (например, в ленте “Шестая часть мира”) не правду жизни в СССР, а миф о коммунизме. Между тем именно в большевистской мифологии и состоит документальность фильма производства 1926 г. Не национальные культы и ритуалы, а коммунистическая идея вершила судьбами показанных Вертовым оленеводов и овцеводов. Разве отошел хоть на шаг от правды художник Истомин, написав картину “Ленин на Ямале”, где подъехавший на оленной нарте Ильич сердечно беседует с самоедами? Вот я действительно был на Ямале и сердечно беседовал с самоедами, но картины такой нет. И поделом. Не в пример мне Ленин побывал там так, что вошел в каждый чум, и в каждом чуме остался жить. Так же он поступил с хижинами овцеводов. По закону сопричастности советские люди свыклись с мыслью, что их символом является не красный попугай, а лик вождя. В том же ключе состоялось советское кино, и оно не устареет, поскольку вмонтировано в историю. Сегодня кино в стиле Вертова уже не снять. Миф ушел, и с ним ушел язык кино. Нынешнее многоязычие напоминает библейскую легенду о Вавилонской башне, великое строительство которой закончилось великим разбродом: ревнивый Господь смешал языки, “так чтобы один не понимал речи другого”, “и они перестали строить город”. Жить в мифе о Вавилонской башне по-своему удобно, но снимать приходится обломки. Однако место мифологии пусто не бывает, и сегодня происходят удивительные события, внешне кажущиеся рутиной. В них рождаются или возрождаются мифы. Пора, например, снимать этнографическое кино о Государственной Думе, которая представляет собой самобытное племя со своим диалектом, местом расселения, особенностями экономики и психического склада. Как замкнутое сообщество, оно имеет ветвистую клановую структуру и иерархию. Но главное состоит в том, что это племя шаг за шагом создает новый для страны мифоритуальный цикл, опорными звеньями которого являются обряды рождения и похорон бюджета. Примечательно, что бюджет, когда бы его не пытались зачать, рождается с приходом весны (до XIV в. Новый год на Руси наступал в марте, с тех пор сохранился древний новогодний обряд Масленницы). Следующие тут же похороны сопровождаются жертвоприношением старых министров, и в новый год страна вступает с обновленным правительством (моложе с каждым годом), свободным от прежних обязательств. И всем становится теплее, потому что все равно приходит лето. И даже изгнанные старые министры улыбаются и возвращаются к своим людям. Чем не сюжет для фильма-басни с названием, например, “Коты и Масленница”? Однако есть в нем, помимо басенного, нечто документальное. Мы не заметили, как перестали жить устремленными в будущее пятилетками и перешли на циклическое времясчисление, при котором жизнь (вернее, культ власти и денег) ритуально возобновляется с каждым годом. Это близко к тому, что Мирча Элиаде назвал мифом о вечном возвращении с сопутствующими ему обрядами сожжения старого года и сотворения новой жизни. Это похоже на культ умирающего и воскресающего божества, подобного египетскому Осирису и греческому Адонису. Кино это настолько документально, что уже многократно снято и дело только за монтажом. Сегодняшнее многоязычие означает и многобожие. Кто-то возрождает старые религии, кто-то лепит нового кумира, кто-то, подобно мне, сидит на болотной кочке и покуривает табачок. Отсюда, с кочки, не виден Вавилон, а здешние боги очень похожи на тех, что в урочный час оживают под лучами солнца на онежских берегах. Меня волнует это пра-кино, и я поворачиваю камеру на древнее ненецкое святилище. Включенная камера Этнографы любят говорить, что главным для них является метод “включенного наблюдения”, не подозревая, насколько их язык близок кинематографии. И там и здесь “включенность” означает не нажатие кнопки, а причастность к происходящему. Подобно этнографическим наблюдениям, снятые кадры легко различимы по их причастности или безучастности. Иногда, “включившись”, я не успеваю думать о том, что и как снять — камера работает, будто живая; иногда снимаю по тщательно взвешенному плану, но камера остается холодной железякой. “Включение” непредсказуемо, и слава Богу. Реальное кино показывает то, что поразило самого автора, а не то, что по замыслу автора должно поражать зрителя. Часто заранее придуманный сюжет только тем и хорош, что неожиданно выводит на другой, захватывающий с первого мгновения. Почти все свои фильмы я снял именно так, с пол-пути. Недавно в ходе очередной поездки по Северу я отыскал задуманного героя и принялся его снимать. Очень скоро это опротивело нам обоим — камера маялась. Тут на стойбище случились роды, но ребенок, которого собирались наречь моим именем, родился мертвым. То ли от ужаса, то ли от сострадания камера заработала, как одержимая — я вдруг ощутил голую сопричастность с происходящим и больше не думал о сюжете, он разворачивался сам. Иногда хочется отключить “включение”, но оно отбивается от рук и убегает из дома. В нескончаемую драму превратился для меня сюжет фильма “Дорога Татвы”. Все началось с того, что летом 1988 г. я приехал на реку Казым с кинокамерой “Красногорск” для занятий этнографией и попутных съемок. Еще зимой мы с одним из местных жителей сговорились, что летом примемся за съемки жизни хантов вдвоем — моей камерой и его, хантыйскими, глазами. Но приятель мой где-то запропал, и, поджидая его, я бродил по поселку Нумто и окрестным стойбищам. Однажды я набрел на одиноко стоящий чум, в котором жили лесные ненцы: старуха и карауливший оленей молодой пастух. Поговорив о житье-бытье, я спросил, как добраться до отдаленного стойбища Порсавар, где, по рассказам, жили интересные древние старики. Парень принялся было описывать неведомые мне озера и перелески, а затем махнул рукой и сказал: “Дойдешь до того озера, а дальше пойдешь по веревке”. — “По какой веревке?” — “Мой брат сплел”. — “Зачем?” — “Он слепой”. — “И куда ведет эта веревка?” — “От Порсавара до поселка Нумто”. Я шел по веревке, сплетенной из обрывков старых сетей и проволоки, а в голове моей шло кино. Предчувствие не обмануло, и фильм о слепом Татве, шагающем по бескрайней тундре своими чуткими босыми ногами, был снят сам собой. Я трещал “Красногорском”, пока не щелкнул конец последней пленки, и совсем забыл о прежнем замысле съемок чужими глазами. Здесь работало другое зрение, заново открывшее мне и тундру, и древних стариков, и ненецкие легенды. Руки Татвы, которыми он наотмашь колол дрова, плел рыболовные ловушки, снимал с костра кипящий чайник, вызывали во мне суеверное брожение. Этими руками он построил дом, соорудил амбар в кроне дерева, сплел веревочную дорогу в разные стороны от стойбища. Он, как паук, оплел всю окрестную тундру, превратив ее в видимый ему одному мир. Я смонтировал видеоряд, поблагодарил “Красногорск” за старания и твердо решил впредь использовать другую аппаратуру. Написанный к фильму текст в виде очерка “Дорога Татвы” я опубликовал в журнале “Северные просторы”. Два года ушли на поиски подходящей для повторных съемок аппаратуры. Тем временем журнальная статья давала о себе знать: на Татву обрушились журналисты и фотографы. Ненецкий поэт Юрий Вэлла перевел ее на ненецкий язык и напечатал в своей малотиражке. Приехав на Порсавар, он подружился с Татвой, повез его в гости к себе на Аган и в конце концов нашел ему жену. Все это было мне невдомек, когда я с новой аппаратурой вернулся на Порсавар. Почему-то нелегко было видеть своего одинокого героя благополучно женатым. К тому же его жена, вместо того чтобы считать меня сватом, выразила неудовольствие и запретила себя снимать. Я подумывал было свернуть затею, но Татва и его брат по старой памяти дали добро на съемки. Новый фильм вышел под прежним названием “Дорога Татвы”. В него вкрались непонятные зрителю ностальгические ноты — в самом конце, где говорится о том, что Татва женился, его веревочная дорога стала зарастать мхом, и теперь он ходит по тундре рука об руку с женой. Вскоре после съемок мне стало известно, что молодожены покинули Порсавар и перебрались в поселок Нумто. А еще через пару лет я узнал, что дорога Татвы стала хорошо наезженной — незнакомый мне режиссер создал фильм под названием “Татвина Дорога”. Так герой вышел в тираж, и я принял в этом деятельное участие. Трудно отмерить, где закончилась одна дорога и началась другая, где прошла граница между тундровым царством, семейным уютом и титулом киногероя. Помнится, я пытался вдохновить Татву рассказом о чудесной силе кино. Он улыбался и молчал. Это молчание стало мне понятнее, когда однажды кто-то из зрителей по привычке задал вопрос: “А как сам персонаж отнесся к фильму?” Я неловко ответил: “Так он же — слепой”. Назойливые мелочи Образ женщины, которую я снимал как воплощение материнства, вызвал у зрительницы неожиданный отклик: “У нее крашеные волосы!?” Вставляя в фильм крупный план накатывающих на галечный берег морских волн, я дышал ощущением вечности и бездонности, а мой приятель-садовод, увидев этот фрагмент, не удержался: “Смотри-ка, какие голыши для бани!” Возможно, в другое время та же зрительница, решив проблему с собственной прической, обратила бы внимание на состояние зубов героини, а садовод молча думал бы о грядках. А как быть с неведомой зрителю экзотической культурой, в которой веник из гусиных крыльев поразительно похож на дамский веер, а изваяние божества, с какой точки его не снимай, выглядит бревном? Как быть с несовпадением символики культур? В одном из фильмов мне понадобился романтический женский взгляд в упор. Я знал, в каком тундровом стойбище живет обладательница подходящих глаз, отыскал ее и добыл нужный мне взгляд. Позднее героиня, увидев собственные глаза во весь экран, выбежала из зала. Я решил, что она просто смущена. Нет, хуже, без всякого кокетства она разъяснила, что в представлениях ненцев большие глаза — признак не глубины и красоты, а испуга. В другом случае, добиваясь смещения истории в мифологию, я показал долгий уход героини за бескрайний тундровый горизонт. Зрительница-ненка уколола меня: “Женщина пошла за бугор по нужде, а ты подсматриваешь”. Можно ли угодить враз вкусам садоводов и оленеводов? Можно ли отыскать усредненный ритм съемок и монтажа, оглядываясь то на беснующегося телевизионщика, то на ученого тугодума, то на степенного северного кочевника? Если закон сопричастности, по которому люди бороро представляют себя красными попугаями, действует только в бассейне Амазонки, то не лучше ли о попугае просто забыть? Или заставить его самого объяснить с экрана, что в данном случае он не попугай, а человек из племени бороро? Я часто слышу упреки в том, что в моих фильмах много текста. Ничего удивительного — ведь изначальной моей стихией было все-таки слово. Да ладно бы только слово. Для своих ранних киноработ я писал песни и непременно озвучивал ими видеоряд. Так что если зритель устает от моих повествований, пусть радуется, что я не пою. Лишать себя слова из-за того, что сегодняшняя киномода отторгает закадровый текст, я не стану, также как не стану вырезать план с морским берегом из-за того, что садовод видит на нем голыши для своей каменки. Прием говорящей камеры передает ту самую “включенность”, которая позволяет автору вслух размышлять, беседовать и даже спорить с героями. Камера не скрывает, что у нее есть ноги, руки, глаза и рот, что она — персонаж фильма. В последней работе (“Путь к святилищу”) я вошел в кадр — сюжет заставил. При этом камера стояла на штативе и неплохо снимала. Иногда происходившее действие переключалось на меня так неожиданно, что я едва успевал перебросить работающую камеру на плечо моего спутника-ненца. Да и сама она стала участницей обрядов — ее окуривали дымом чаги и убеждали на пути к святилищу не снимать ничего нечистого. В эти минуты я думал о втором операторе, хотя и понимал, что его присутствие могло бы невзначай сбить ритм ритуала. Мне не раз доводилось видеть, как деревенеют лица ненцев при вторжении в их мир кинобригад, и я в очередной раз со вздохом принимал решение снимать в одиночку. Хуже того, я вижу, как резко меняет камера мое собственное поведение. На месте скромного этнографа вдруг появляется настырный оператор, сующий объектив в потаенные углы. Я чувствую себя дантистом, когда снимаю, например, крупный план лица. Кино ощутимо агрессивнее этнографии, и лишь старики да дети способны невозмутимо отразить эту агрессию. В какой-то мере напряжение смягчается при чередовании этнографического и операторского поведения, но полностью эта грань не устранима. Однажды мне пришлось слышать рассказ о двух людях, в разное время побывавших на Ямале: на самом деле это был я один, только в разных ролях — этнографа и режиссера. Итак, камера — настолько влиятельная персона, что может быть либо буквально скрытой, либо открыто явленной. Много раз при съемках я стремился добиться иллюзии собственного отсутствия (или, как говорят в науке, “объективности”), но вынужден признать все эти попытки неудавшимися. Тут заветный разговор о киноправде заходит в тупик, потому что при вскрытии “правд” их оказывается многовато. По существу непреложным остается лишь факт диалога очень непохожих друг на друга лиц по обе стороны объектива, а кино предстает не столько реальностью, сколько эффектом соприкосновения разных реальностей. Кроме того, ярлык своей правды ставит на фильме каждый зритель, не говоря уже о кинокритиках. На одном из фестивалей я услышал мнение, что для съемок фильма “Путь к святилищу” можно было не ездить так далеко в Арктику. Что ж, многим людям этнографическая реальность представляется чем-то сродни музейной экспозиции — и они по-своему правы. У меня, напротив, не поднимается камера снимать музейно-фестивальные инсценировки, нередко преподносимые как культурные традиции, — и я по-своему неправ, так как сувенирные сцены являются частью реальности. Я не боюсь неправильно снимать кино, потому что все правильные фильмы уже сняты. Как выясняется, на моем месте кто-то создал бы картину о страданиях безработных северян, кто-то показал бы от начала до конца процесс изготовления нарт. В умелых режиссерских руках безработный выглядит так обреченно, что зритель вмиг забывает собственные горести, а стружка шелестит так жизнерадостно, что нарта становится положительной киногероиней. Кино позволяет в одной и той же позе одинаково эффектно строгать, страдать, стращать, стрелять — выбор остается за камерой. Я снимал безработного за изготовлением нарты, но у меня он получился не страдальцем и не умельцем, а каким-то мыслителем с топором в руках. Насколько этнографическое знание культуры совпадает с мгновенным киновзглядом? Как показывает мой собственный опыт, невозможно ни познать, ни тем более снять культуру целиком. Выбирать приходится и этнографу и режиссеру, только первый это делает как бы изнутри культуры, а второй — снаружи. В отношении этнографа к изучаемой культуре есть нечто супружеское — он полон знания и участия, но его ощущения слегка притуплены. Кинематографист, подобно герою-любовнику, полон желаний, но переживаемые им чудные мгновения оказываются в немалой степени привнесенными извне. Нет нужды путать два этих ремесла, но именно на их стыке могут рождаться открытия — как в науке, так и в кино. Между тем, по недоразумению, наука все еще не считает кино исследованием, а кино видит в науке замшелый архив. Каждый цех самовлюбленно рассматривает собственный пуп и оправдывается профессиональными привязанностями: историк-де мыслит эпохами, этнограф — культурами, кинематографист — образами. И всем нравится чувствовать себя первопроходцами на одной и той же дороге. Я не призываю громоздить друг на друга разные профессии. Напротив, их диалог позволяет сбросить лишнюю тяжесть: кино подталкивает науку к избавлению от удушающей безликости, а наука дает кино шанс освободиться от обывательских стереотипов (например, навязчивых идей просветительства, цивилизаторства, “общечеловеческих ценностей”). Правда, всякое освобождение вызывает щемящее чувство утраты, тем более что речь идет о священных традициях: дремучем языке науки и нравоучительности кино. Основная масса жрецов профессии, как всегда, останется верна традиции, а горстке изгоев придется плутать путями разочарований. Им вслед, как всегда, будут нестись насмешки и окрики, а на перекрестке, где они встретятся, усядется ворона и закаркает о тщете и суете. И все же кому-то из них удастся добраться (или вернуться?) к своему берегу, где в урочный час оживают боги и говорят на каком-то до боли близком наречии.
|
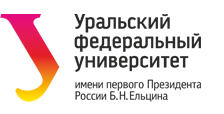 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |