Антропологических Фильмов кинофестиваль |
ПРИТЯЖЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ Я обращаюсь к евразийской идее не с позиции ее политической – или, словами самих евразийцев, «идеократической» - ценности (для меня, впрочем, очевидной), а как к методологии этнической истории России. Для выдающегося лингвиста и этнографа Н.С. Трубецкого смысл истории состоит не в «мировом прогрессе общечеловеческой цивилизации», а в развитии народов – «симфонических личностей». В этом евразийцы являются преемниками теории Н.Я. Данилевского о многолинейности становления и роста «самобытных цивилизаций» (культурно-исторических типов). Правда, восставая вслед за тем же Данилевским против европоцентризма, евразийцы теряют историческое равновесие и подвергают опале, заодно с Петром I и всей «петербургской эпохой», совершенно иные по своей природе «западные» явления, и их Евразия выглядит освещенной лишь с одной стороны – азийской. Н.С. Трубецкой именовал Евразией северную часть континента (тундры, леса и степи), связанную «антропологической непрерывностью» и единой исторической судьбой. Поскольку «тундра вообще не может идти в расчет как область слишком неблагоприятная для развития какой бы то ни было человеческой деятельности», а лесные народы способны овладеть лишь отдельными вытянутыми по меридиану речными системами, роль господина всей Евразии в древности была уготована народу, сумевшему подчинить себе степь (а затем, по речным долинам, и прилегающие северные пространства). Это достойное хрестоматии наблюдение Трубецкого можно было бы считать бесспорным, не окажись в тени северо-западный угол Евразии – район Великих северорусских озер и соседних областей Балтии и Скандинавии, откуда, как известно, с древности шел мощный встречный импульс евразийской истории. Сущность варяжско-русского государства (Древней Руси) Н.С. Трубецкой блестяще характеризует как систему отношений по осуществлению товарообмена на «пути из Варяг в Греки», однако тут же вбивает очередной антизападнический клин: «туранские государства в пределах одной европейской России (царство волжско-камских болгар и царство Хазарское) были гораздо значительнее варяжско-русского». С точки зрения истории российской государственности выводы евразийцев вполне убедительны. Действительно, с благословения Орды Москва выросла на сборе дани и пронесла эту традицию через века. Она оказалась самым устойчивым из ордынских «ханств», поглотив в конечном счете татарские земли, и самым агрессивным из русских княжеств, поглотив в конечном счете восточнославянские земли. С первых дней своей столичности она предстала резиденцией надэтничной государственности и остается таковой по сей день. В маргинальности московской власти лежат истоки ее удивительной податливости на все иноземное, в этом же состоит главный казус российской истории с ее непреодолимой пропастью между народом (народами) и государством. Евразийцы не свободны от расхожего заблуждения, будто отличительным свойством великороссов является способность к «государственному строительству крупного масштаба». На самом деле великороссы-народ тут не при чем – напротив, им первым пришлось бежать от московской экспансии (особенно в пик ее разгула при Иване IV): кому на север в поморы, кому на юг в казаки. Дальнейшее стремительное движение русских на восток напоминает скорее погоню властей за уходящими все дальше казаками и поморами, чем планомерное освоение новых территорий. Собственно старорусской традиции, долгое время хранимой независимым от ордынско-московской власти Великим Новгородом, свойственно иное – всевластие народного веча и служебная роль наемного князя. Официальная историография до сих пор убеждена в том, что Новгород уступил Киеву, а затем Москве первенство в русских землях, оставшись без державного князя. Между тем в свое время Новгород первенствовал в культуре и общественном устройстве именно потому, что сумел взойти выше уровня княжества. Н.С. Трубецкой с достойной восхищения легкостью сдвинул многие лежачие камни российской историографии, но остался верен предубеждению, будто истинно историческими событиями в судьбе Евразии были только глобальные завоевания, а сама Евразия будто для того только и создана, чтобы ее покоряли от края до края (например: «Чингисхану удалось выполнить историческую задачу, поставленную самой природой Евразии, – задачу государственного объединения всей этой части света»). Но Евразия как империя (и в монгольское и в московское время) – совсем не то же, что Евразия как сообщество народов. Скорее наоборот, ее пространство оказалось ареной нескончаемой борьбы народов (создателей культуры) с макрогосударствами (создателями тирании). Именно потому, как замечает сам Н.С. Трубецкой, не благодаря, а вопреки имперскому режиму сложилась традиция «братания русских с инородцами», а Емельян Пугачев, «стоя под знаменем старообрядчества, …не находил ничего предосудительного в объединении с башкирами и прочими представителями не только инославского, но даже иноверного туранского Востока». Если считать содержанием истории не завоевания, а развитие национальных культур, то несравненно величественнее эпохи монгольского нашествия окажется, например, время расцвета финно-угорских, славянских и тюркских культур Евразии X-XII вв. н.э. К западу от Урала в ту пору сложились самобытные центры культуры: Великий Новгород и Великий Булгар. То торгуя, то воюя друг с другом и соседями-уральцами, Новгород и Булгар создали в Волго-Уралье целостное культурное пространство, в котором ходили купеческие караваны, разменивались денарии на дирхемы, уживались христианство, ислам и язычество. Булгарские купцы забирались далеко на север во владения Новгорода к народам вису и йюра, колонии новгородцев (Хлынов) вплотную примыкали к землям Булгара. Археологи часто затрудняются в определении источника обнаруживаемых на уральских (например, древнепермских) памятниках изделий, поскольку новгородцы и булгары делали в своих мастерских сходные в художественно-стилевом отношении вещи. По этому поводу обычно заходит речь об умении новгородцев и булгар подладиться под вкус и спрос уральских жителей. Трудно не увидеть в этом и нечто более значительное: между Булгаром и Новгородом существовала устойчивая связь, активным посредником в которой выступал лесной финно-угорский мир. Тогда, в X-XII вв., на пути Булгар-Пермь-Новгород и родилось евразийство как явление культуры с отчетливо выраженным русско-славянским и тюркским полюсами. Нет нужды взвешивать мощь Новгорода (или Варяжской Руси) и Булгара (или Хазарии). В разговоре об истоках евразийского единства важнее обратить внимание на их диалог и роль в этом диалоге Верхней (Новгородской) Руси, которая в концепции Н.С. Трубецкого скрыта антизападническим занавесом. При этом недопустимо смешивать или считать преемственными роли Новгорода и Москвы – настолько же различные, насколько чужды друг другу вече и опричнина. Путь новгородцев в глубины Евразии на полтысячелетия старше московского (соответственно XI и XVI вв.), а по существу они различаются как диалог культур и военно-административное подчинение. Ни Чингисхан, ни Иван Грозный не были творцами евразийского единства как этнокультурного явления. Они (или их военачальники) прошли по давно проторенным дорогам и застали уже сложившуюся систему межнациональных связей. Они ее значительно упростили, перекроив на административный лад, а во многих отношениях разрушили (Булгар вырезан монголами, Новгород растерзан московскими опричниками). Иван IV, одолев Казань и Новгород, «воссоединил» Евразию – установил вместо диалога культур монолог политики. Разрушение центров культуры и всей системы равновесных связей внутри Евразии не замедлило сказаться на судьбе самой Москвы – ощутив себя вдруг одинокой на просторах Евразии-России, она принялась истово прорубать окно в Европу, учиться многому из того, что было в свое время хорошо известно и в Новгороде и в Булгаре. Тем временем идея евразийской самобытности вместе с ее живыми носителями отступала все дальше на восток: через Урал двинулись пермяне и Угры, поморы и казаки, татары и башкиры Волго-Камья; на Урале и Алтае нашли приют староверы. Иногда им сообща приходилось испытывать давление центральной власти, например, при Петре I, когда тобольский митрополит Филофей Лещинский в равной мере решительно «просвещал» и русских староверов, и татар-мусульман, и угров-язычников. На основе идеи уже сибирской самобытности в середине XIX в. Родилось областничество, и круг единомышленников вместе с русскими Г. Потаниным и Н. Ядринцевым составили казах Ч. Валиханов и бурят И. Пирожков. Н.А. Бердяев упрекал евразийцев в том, что у них «исчезает своеобразие и единственность русского духовного типа, русской вселенской христианской идеи». С этим можно согласиться, и то с оговорками (евразийцы порой с излишним пафосом говорят об исключительности православия), если взирать на Евразию с «вселенской» позиции. При взгляде изнутри Евразия предстает страной, где никогда не было тесно ни народам, ни религиям. Тот изначальный диалог культур, который выразился в связях славян, тюрков и уральцев X-XII вв. (а в несколько иных формах существовал и ранее), сложился на языческой основе. Позднее в него включились мировые религии, распространявшиеся по Евразии с завоеваниями и государственностью, и потому их соотношение с пространством народов и культур выглядит замысловато: в истории тюрков, помимо язычников и мусульман, известны иудаисты (хазары), буддисты и манихеи (уйгуры), христиане (чуваши, якуты и др.); на долю русских выпало столько отменявших друг друга «изданий» православия (при Владимире I, Иване III, Алексее I, Петре I, в СССР и после), что синонимизация русский – православный возможна только на политическом и обывательском уровне. Евразийская идея, таким образом, может быть принята как представление о самобытности круга народов, традиционно связанных общим культурно-географическим пространством. Превращение этого пространства в империю – хуннскую, монгольскую или российскую – точнее считать одной из политических «версий» евразийства, нежели его сущностью. |
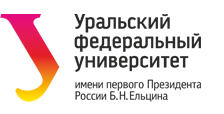 |
 |
 |
|---|---|---|
| Уральский федеральный университет | Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН |
Films from the Far North |